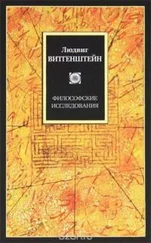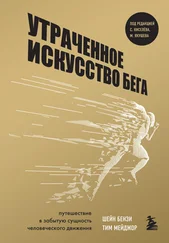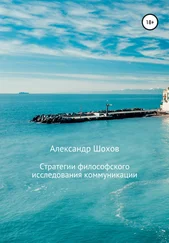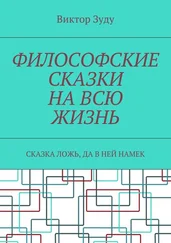Пусть же данное сочинение послужит устранению ряда предвзятых мнений, с одной стороны, и пустой, безответственной болтовни - с другой.
И наконец, мы хотели бы, чтобы те, кто открыто или замаскированно выступал против автора в данном вопросе, изложили бы свое мнение столь же откровенно, как это сделано здесь. Полное владение предметом делает возможным его свободное отчетливое изложение - искусственные же приемы полемики не могут быть формой философии. Но еще больше мы желаем, чтобы все более утверждался дух совместных устремлений и слишком часто овладевавший немцами сектантский дух не препятствовал обретению познания и воззрений, полная разработка которых испокон веку была предназначена немцам и к которым они, быть может, никогда не были ближе, чем теперь.
Мюнхен, 31 марта 1809
Задачей философских исследований о сущности человеческой свободы может быть, с одной стороны, выявление правильного ее понятия, ибо, сколь ни непосредственным достоянием каждого человека является чувство свободы, оно отнюдь не находится на поверхности сознания и даже для того, чтобы просто выразить его в словах, требуется более, чем обычная чистота и глубина мышления; с другой стороны, эти исследования могут быть направлены на связь этого понятия с научным мировоззрением в его целостности. Поскольку же понятие никогда не может быть определено в его единичности и обретает полную научную завершенность лишь посредством установления его связи с целым, причем это в первую очередь относится к понятию свободы, которое, если оно вообще обладает реальностью, должно быть не только подчиненным или второстепенным понятием, но и одним из господствующих центральных пунктов системы, то обе названные стороны исследования здесь, как и повсюду, совпадают. Правда, в соответствии с древним, но отнюдь не забытым преданием понятие свободы вообще несовместимо с системой, и любая философия, претендующая на единство и целостность, неизбежно ведет к отрицанию свободы. Опровергать общие утверждения такого рода нелегко, ибо совершенно неизвестно, какие ограничивающие представления связываются со словом "система", в результате чего суждение может оказаться вполне верным, но выражать при этом нечто вполне обыденное. Это мнение может сводиться и к тому, что понятие системы вообще и само по себе противоречит понятию свободы; тогда как же можно допустить - поскольку индивидуальная свобода все-таки тем или иным способом связана с мирозданием в целом (независимо от того, мыслится ли оно реалистически или идеалистически) - существование какой-либо системы, хотя бы только в божественном разуме, системы, наряду с которой существует и свобода. Утверждать в общем, что эта система никогда не может быть постигнута человеческим рассудком,- значит вновь ничего не утверждать, ибо в зависимости от смысла, приданного этому утверждению, оно может быть истинным или ложным. Все зависит от определения принципа, который лежит в основе человеческого познания; для подтверждения же возможности подобного познания можно привести сказанное Секстом об Эмпедокле: "Грамматик и невежда предположат, что такое познание не более чем хвастовство и стремление считать себя выше других - свойства, которые совершенно чужды каждому, кто хоть в какой-либо мере занимается философией. Тот же, кто исходит из физической теории и знает, что учение о познавании подобного подобным является очень древним (оно приписывается Пифагору, но встречается уже у Платона и еще значительно раньше было высказано Эмпедоклом), поймет, что философ претендует на подобное (божественное) познание потому, что только он один, сохраняя рассудок чистым и не затронутым злобой, постигает вместе с Богом в самом себе и Бога вне себя". Тем, кто чужд науке, свойственно понимать ее как некое совершенно отвлеченное и безжизненное знание, подобное обычной геометрии. Проще и убедительнее было бы отрицать наличие системы и в воле или в разуме изначального существа, утверждать, что существуют вообще только отдельные воли, каждая из которых является центром для себя и, согласно мнению Фихте, есть абсолютная субстанция каждого Я. Однако стремящийся к единству разум и чувство, утверждающее свободу и индивидуальность, всегда сдерживаются лишь насильственными требованиями, которые недолго сохраняют свою силу и в конце концов отвергаются. Так и Фихте вынужден был засвидетельствовать в своем учении признание единства, хотя и в убогом облике нравственного миропорядка, непосредственным следствием чего оказались противоположность и несообразность в этом учении. Поэтому нам представляется, что, сколько бы доводов в пользу подобного утверждения ни приводилось с чисто исторической точки зрения, т. е. исходя из предшествующих систем (доводов, почерпнутых из существа разума и познания, мы нигде не обнаружили), установление связи между понятием свободы и мировоззрением в целом всегда останется необходимой задачей, без решения которой само понятие свободы останется неопределенным, а философия - лишенной какой бы то ни было ценности. Ибо только эта великая задача есть неосознанная и невидимая движущая сила всякого стремления к познанию, от его низших до его высших форм; без противоречия между необходимостью и свободой не только философия, но и вообще всякое высшее веление духа было бы обречено на гибель, что является уделом тех наук, в которых это противоречие не находит себе применения. Отказ же от этой задачи посредством отречения от разума больше похож на бегство, чем на победу. Ведь с таким же успехом можно было бы отказаться от свободы, обратившись к разуму и необходимости,- как в том, так и другом случае не было бы основания для триумфа.
Читать дальше


![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/386204/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre-thumb.webp)
![Виталий Глущенко - Рождение человечества [Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования] [litres]](/books/388056/vitalij-gluchenko-rozhdenie-chelovechestva-nachalo-chelovecheskoj-istorii-kak-predmet-socialno-filosofskogo-issledovaniya-litres-thumb.webp)