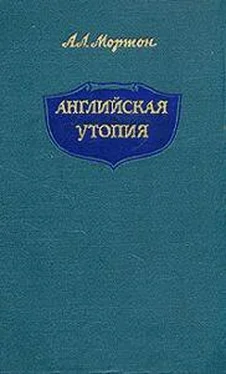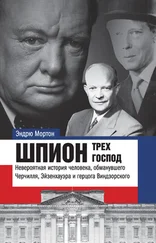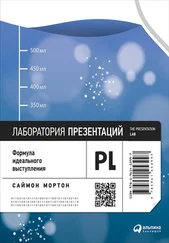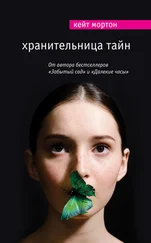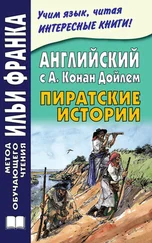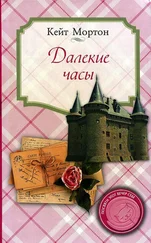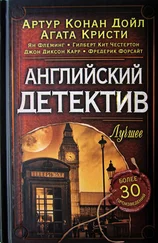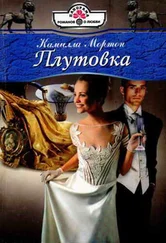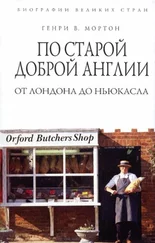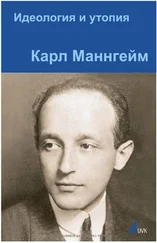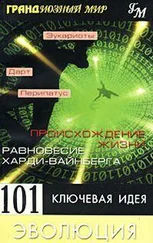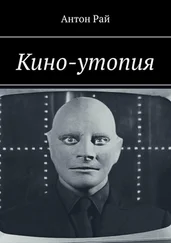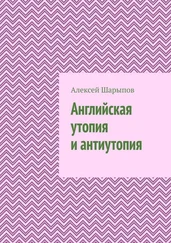Во-вторых, автор напрасно рассматривает Томаса Мора как представителя английского, в частности лондонского, купечества. Ни Мор, ни его отец ни когда не были по профессии купцами. Это была семья, поднявшаяся из типичных разночинцев до служилого чиновничье-судебного дворянства. Рыцарский (дворянский) титул впервые получил отец Мора, и от него он перешел по наследству Томасу Мору. Затем — и это самое главное — во взглядах Мора совершенно отсутствует какой-либо признак специфических буржуазно-купеческих настроений и требований. Конечно, Мор был против феодального гнета, он сочувствовал росту промышленности, торговли, развитию научной мысли, всему тому прогрессивному, что связано с эпохой зарождения капиталистических отношений. Но он сам же подверг глубокой критике противоречия нового, нарождающегося капиталистического строя. Для Томаса Мора характерно другое. В своей критике возникающего капитализма, с его огораживаниями и с пауперизацией населения, обогащением одной части общества и ухудшением положения другой, с разделением общества на антагонистические классы — разделением еще более резким, чем при феодализме, — Мор отразил настроения трудящихся масс, больше всех страдавших от последствий этих социальных перемен. Советский академик В. П. Волгин в ряде своих работ, в частности во вступительной статье к изданной на русском языке «Утопии» Мора, вполне убедительно показал, что на взгляды Томаса Мора оказали влияние народные массы в лице своих наиболее многочисленных в ту эпоху представителей, мелких производителей — крестьянства, еще сохранявшего ко времени Мора общинный уклад своей жизни, и горожан-ремесленников, тогда еще не вышедших из своих цеховых организаций и объединений.
Несмотря на эти отмеченные недостатки, «Английская Утопия» в целом производит весьма положительное впечатление. Она представляет собой оригинальное, хорошо продуманное и скомпонованное, значительное по своему содержанию историко-литературное произведение. Книга, несомненно, вызовет к себе глубокий интерес не только историков, но и литераторов и философов нашей страны, глубоко интересующихся вопросами истории и теории социализма и коммунизма.
Проф. В. Семенов.
Страна, где солнце светит
по обе стороны изгороди.
Западная поговорка.
Эта книга — история двух островов: Утопии и Британии. У каждого из них своя история. Обе развиваются параллельно и помогают взаимно объяснить одна другую. Цель настоящей книги — способствовать этому объяснению. Люди думали, надеялись, а иногда и боялись, что Утопия есть тот самый остров, в который может вскоре превратиться современная им Британия. Их мысли и чаяния в этом направлении зависели не только от прочитанных ими книг и привычного круга идей, но и от событий, происходивших в реальном, окружающем их мире, от класса, к которому они принадлежали, и от роли, которую этот класс играл или хотел играть по отношению к другим классам.
Я назвал эту книгу «Английская (а не Британская) Утопия» по той простой причине, что рассмотренные мною утопии были именно английские, а не шотландские, ирландские или уэлльсские. Свифт представляет лишь отдельное исключение из этого обобщения. И я был рад, что мог ограничиться изучением утопий этой одной страны, так как наша литература особенно богата книгами такого рода. Это ее богатство объясняется, как мне кажется, главным образом очень ранним развитием у нас буржуазного общества, а также тем, что это развитие приняло классические формы. Английские политические мыслители гордились историей своей страны и считали, что на них лежит особый долг перед всем миром. Английская гордость порой принимает форму отвратительного самодовольства, и в дальнейшем мы увидим, что Утопия добилась наименьших успехов именно в борьбе с этим пороком; но иногда эта гордость носит благородный и щедрый характер — в ней проявляется стремление чело века, достигшего определенных благ, поделиться ими со своими соседями. Так, одним из основных побуждений составителей утопий в Англии было желание выразить свои представления о демократии, общественной жизни и идеальном устройстве государства в возможно более доходчивой и популярной форме. «Я изложил свои концепции в форме сказки, полагая, что это наиболее изящная манера высказываться», — писал Сэмюэль Гартлиб о своей «Макарии» («Остров Блаженных»).
Читать дальше