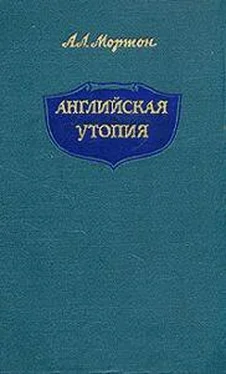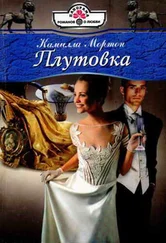Наиболее полный портрет Мора и самые интимные сведения о нем даны Эразмом Роттердамским в его письме к Ульриху фон Гуттену. Эразм пишет, что лицо Мора «…всегда выражает ласковую и дружественную приветливость, нередко сопровождаемую улыбкой; …он склонен больше к веселости, чем к суровости и важности, хотя и совершенно чужд всякого нелепого шутовства…», рассказывает о простоте его вкусов, способности завязывать дружбу и о привязанности к семье. Такое впечатление Мор производил на всех, кто с ним встречался, и даже теперь, читая его сочинения или отзывы о нем, испытываешь чувство близости к нему, какое редко возникает при знакомстве с историческими деятелями. Мы восхищаемся Мором за его мужество и честность, простоту, сочетавшуюся с большой ученостью и способностями государственного деятеля. Мор, так же как и Свифт, хотя и по разным причинам, принадлежит к той категории лиц, имена которых окружены легендой — о них сохранился ряд анекдотов, может быть и не вполне достоверных, однако ценных потому, что в них отражается очень живо воспринятый облик выдающегося человека. За всем этим в характере Мора угадывается какая-то отрешенность от обыденной жизни и несколько скептическое отношение к ней. Это больше всего проявляется в покровительственном тоне Мора, когда он говорит о женщинах. Следует помнить, что Мора привлекал аскетизм ордена картузианцев [25] Картузианцы (картузаны) — аскетический монашеский орден, основанный в безлюдных горах Шартреза близ Гренобля (Франция). — Прим. ред.
. Он мог быть очаровательным собеседником, одинаково способным обсуждать философские вопросы или предаться веселой и остроумной болтовне, но он, как нам кажется, никогда не отдавался этому целиком. В этом человеке отразилось типичное для того времени столкновение старого с новым, гуманиста и средневекового аскета. Оно и заставило его писать об орденах женатых и холостых работающих монахов.
«Этих вторых сектантов утопийцы считают более благоразумными, а первых — более чистыми».
Пожалуй, правильнее было бы сказать, что гуманизм представлял сам по себе, особенно в Англии, почву для такого конфликта. Хотя гуманизм и являлся новым учением и верой в новый класс, он, однако, возник на почве догматического и схоластического мышления средних веков и был весь пронизан теми самыми понятиями, против которых сам восставал. Мы встречаем в одно и то же время и даже в одном и том же лице скептическое и языческое мировоззрение эпохи Возрождения и пуританское и догматическое мышление времен Реформации. Так обстояло дело даже в Италии, где гуманизм возник раньше и прочнее всего утвердился. Гуманизм отражает безграничный оптимизм нового класса, перед которым открывается мир. Им отброшен догмат о первородном грехе и вера в то, что Сатана правит миром. Гуманизм проповедует веру в то, что лишь внешние причины препятствуют человеку и миру идти по пути бесконечного совершенствования:
«К этому времени относится возникновение нового склада мышления, которое можно было бы в наиболее обобщенном виде определить как принятие жизни, в противоположность ее отрицанию. Отсюда вытекает появление повышенного интереса к человеку и к его окружению, а это, в свою очередь, ведет к росту интереса к личности, как таковой» (Нul — me, Speculations, p.25).
Это новое направление общественной мысли явилось результатом не только зарождения нового прогрессивного класса, но и нового понимания истории. До того человек жил под сенью прошлого. От убожества феодализма он отворачивался, оглядывался назад и его влекло к подлинному, а то и вымышленному великолепию античного мира и золотого века. В общем было бы правильно сказать, что к концу XV века, цивилизация в Европе достигла уровня греко-римского мира, а в некотором отношении даже превзошла его. Следовательно, вместо того, чтобы только оглядываться на прошлое, овеянное большей славой, чем настоящее, люди стали смотреть вперед, ожидая более светлого будущего. Этот рост цивилизации в корне изменил облик человека:
«По мере роста благосостояния и устойчивости цивилизации, различие между естественным и сверхестественным становилось все менее и менее резким. Догматы «искупления» и «первородного греха» могли, как уже указывалось выше, возникнуть из отчаяния, сопровождавшего распад древнего мира, но поскольку мир становился более безопасным и человек делался более земным» (Basile Willey, The Seventeenth Century: Background, p.33).
Путь к грядущему счастью лежит через устранение всех искусственных и внешних препятствий, то есть путем применения разума. На практике это означало принятие монархами и государственными людьми взглядов гуманистов. Мор писал:
Читать дальше