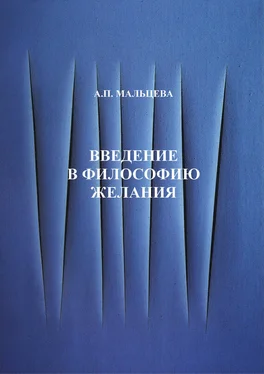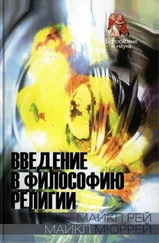1 ...5 6 7 9 10 11 ...126 Желание чудесно, коль скоро создает приток сил «из ниоткуда». В желании человек уподобляется Богу, он может совершать такое, на что, без желания, у него ушли бы годы. Определение желания как негации (Гегель, Сартр) не позволяет объяснить происхождение всегда сопутствующего желанию притока энергии, сил, радости. Желание (по сути своей) – ни отрицание того, что есть, ни восполнение недостающего. Человек желания не становится целым после получения недостающего, но он уже владеет идеей собственной целостности и полноты в поле желания и затем реализует имеющуюся идею целого (совершенного) путем ее воплощения в жизни. Желание делает отсутствующее х реально существующим, реально воздействующим на меня, вызывающим у меня реальные слезы, умиление, счастье, дающим мне реальные силы, энергию, вдохновение. В этом смысле желание ни в чем не нуждается.
Нехватка, «прореха» в бытии возникает именно тогда, когда субъект лишается желания. Так, например, у Рокантена в романе Сартра «Тошнота» не было желания (в частности – изучать жизнь маркиза VIII века), и именно поэтому, на мой взгляд, его и начинают посещать приступы тошноты. Сартр не заостряет внимания на отсутствии желания у главного героя, безразличие ко всему у которого усиливается еще и тем, что наследники маркиза, которые оплачивали работу историка, не испытывают настоящего интереса к ее результатам. Отсюда видно, что Рокантен не имеет собственного желания продолжать работу и не может быть «заряжен» желанием извне. Отсутствие желания и порождает экзистенциальную «тошноту».
В желании есть многое от тайны. В.М. Найдыш определяет тайну как «центр концентрации и актуализации человеческой духовности» (Найдыш, 2002, с. 518). Приобщение к тайне требует от человека «высшей концентрации всех его духовных, сущностных сил» (с. 527). Найдыш считает, что, взятая в «личностном измерении», тайна – это некое особое состояние человеческого духа, в котором отчетливо выделяются два полюса, два «субстанциальных основания»: когнитивный и ценностно-аффективный (с. 518). Тайна имеет бинарную структуру: в ней сочетаются и познание, и переживание мира. Иначе говоря, где есть тайна, там разделение на когнитивное, познавательное, и оценочное, ценностное, отношение человека к миру становится относительным.
Функция тайны заключается в том, что она «напоминает человеку о бесконечности бытия, о том, что эта бесконечность проходит через самого человека, через его духовность» (с. 522). Вот почему для человека гораздо опаснее не разрешение тайны, а утеря Тайны. Утеря тайны грозит человеку «утратой необходимого чувства напряженности в отношениях с миром, и вместе с ним – основ своей духовности, основ самого себя» (с. 523). Найдыш пишет: «Через свое личное осознание тайны человек как бы становится соучастником универсального, всемирового мистериального действа» (с. 526). Тайна – переживание качественной неповторимости, уникальности момента соприкосновения с непознанным и неизведанным; она «индивидуализирует любой процесс целерационализации», где индивидуализация означает принципиальную непредсказуемость того, что будет (с. 528). Кроме того, тайна всегда есть «переживание качественной неповторимости, уникальности момента соприкосновения неосвоенных и освоенных человеком граней бытия» (с. 526).
Будучи игрой, тайна постоянно ставит человека перед «крестом мук смысложизненного выбора», который далеко не всегда может быть рационально обоснован. Тайна формирует «побудительные и смыслонесущие моменты цели» (с. 520). В тайне человек переживает себя как «активную, динамическую и конструктивную часть мирового и вселенского целого» (с. 529). Более того, человек при этом стремится «испытать себя, сделать еще один шаг в направлении преодоления своих собственных границ, пределов своего внутреннего Я». Можно сказать, что тайна является достоянием личного опыта, но выходит при этом за его пределы.
Тайна возникает на стыке рационального и иррационального, сознательного и бессознательного. Тайна заставляет человека постоянно балансировать на грани рационального и иррационального, сознательного и бессознательного (с 528). Тайна предполагает и даже делает обязательным мифотворчество, поскольку «сопротивляется ее когнитивному освоению» (с. 521), она рационально и познавательно неисчерпаема. Тайна требует таинства. «Наиболее известной и яркой формой таинства является молитва» (с. 531).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу