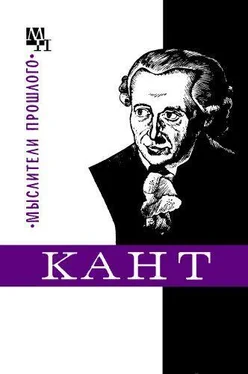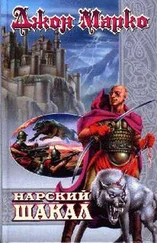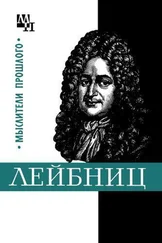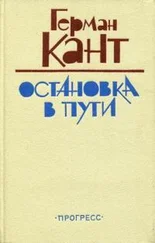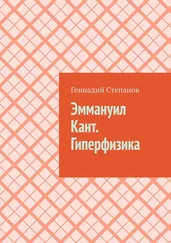С другой стороны, история человечества для Канта — это та область, которую еще предстоит завоевать для царства моральных целей. Категорические императивы морали и права, внедряясь в эту область через сознание отдельных лиц, призваны преобразовать историю в единый телеологический процесс в сторону торжества морали. Ведь даже с более низкой точки зрения развития просвещения и культуры назначение человеческой природы «заключается именно в этом движении вперед» (11, т. 6, стр. 31). Но люди не становятся лишь материалом и средствами достижения вселенской нравственной цели: согласно категорическому императиву, они сами должны быть целями. Общий моральный прогресс призван служить интересам всех людей вместе и каждого из них в отдельности.
На указанной основе возникают четыре, по сути дела диалектических, несоответствия между преследуемыми людьми индивидуальными целями и результатами их действий (ср. 31, стр. 82). Во-первых, и в малоразвитых обществах, да и на более высоких стадиях развития люди ополчаются друг на друга ради торжества своего беспредельного и чуждого даже легальным мотивациям эгоизма, хотя иногда лицемерно прикрытого «добропорядочностью». Уже Гоббс показал, насколько неожиданным может быть итог всех этих долгих столкновений. Кант касается этого в работе об изначальном зле.
Во-вторых, в сфере действия гипотетических императивов между индивидами и их группами также происходят столкновения, доходящие временами до острой борьбы, которую оправдывают соображениями пользы. Главное средство развития человеческих задатков и способностей — «это антагонизм их в обществе». Данный антагонизм поистине диалектичен, потому что он и отталкивает людей друг от друга, и их же соединяет: Кант указывает на лежащую в его основе «недоброжелательную общительность людей, т. е. их склонность вступать в общение, связанную, однако, с всеобщим сопротивлением, которое постоянно угрожает обществу разъединением» (11, т. 6, стр. 11), но до абсолютного разрыва социальных связей не доводит, ибо сами раздоры заставляют людей искать помощи и сотрудничества. Рассуждая о своеобразной «несоциальной социальности», философ имеет в виду не противоречия между классами, а нечто вроде «улучшенного» варианта гоббсовой борьбы всех против всех, перенесенной из естественного состояния в общественное: люди продолжают быть жадными и властолюбивыми. Эта борьба эгоистических страстей в целом оказывается, вообще говоря, продолжением на уровне этики легальных поступков ряда действий, которые имели место и на указанном выше «долегальном» уровне. Общая картина безрадостна: «…из столь кривой тесины, как та, из которой сделан человек, нельзя сделать ничего прямого» (11, т. 6, стр. 14). Но равнодействующая огромного количества частных антагонизмов между людьми все же, как это показали А. Смит и Б. Мандевиль, подвигает общество в целом по пути его относительного прогресса. В сравнительно совершенном обществе «членам его предоставляется величайшая свобода, а стало быть, существует полный антагонизм…» (11, т. 6, стр. 13).
В-третьих, каждая личность, коль скоро она ставит перед собой задачу реализации категорического императива, не в состоянии и предположить, к какому совокупному результату приведет моральный прогресс отдельных лиц. Если между нравственными задачами разных людей и нет глубокой дисгармонии, то между задачами правовыми она возникает неизбежно: ведь люди — подданные различных государств, а внутри каждого из них они занимают далеко не одинаковое положение, и это неизбежно сказывается на конкретном понимании ими требований категорического императива права.
В-четвертых, возникает несоответствие между действиями гипотетических и категорического императивов морали. Чем более моральность вторгается в царство легальности, тем более это несоответствие превращается в острое противоречие по существу. Утверждение морали долга в мыслях и поступках людей смягчает эмпирические антагонизмы между людьми, но они все-таки неистребимы и серьезно препятствуют моральному совершенствованию людей. С другой стороны, обе линии прогресса — легальная и моральная — направлены в конечном счете, по Канту, в одну сторону, и он не исключает их относительного равнодействия. Кант, мечтая о вечном мире, рассчитывает не только на торжество собственно морального начала, но и на легальные мотивы — страх перед ужасами войны, заинтересованность в международной торговле и т. д. Таким образом, имеет место не только внешнее столкновение, но и взаимодействие между сторонами антагонизмов, т. е. между легальными и моральными стимулами исторического прогресса, а результаты его необозримы, и никто не в состоянии их предвидеть. Поистине здесь «уже проглядывают контуры гегелевского учения о „хитрости мирового разума“» (39, стр. 6).
Читать дальше