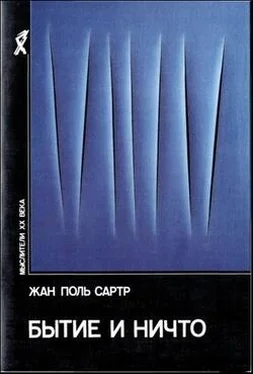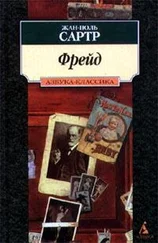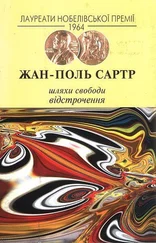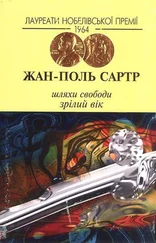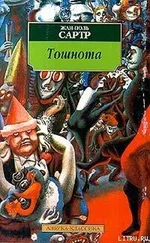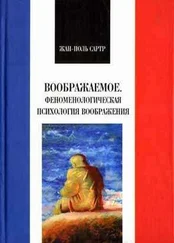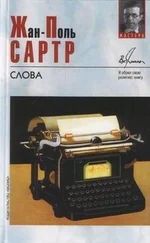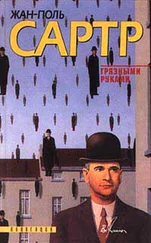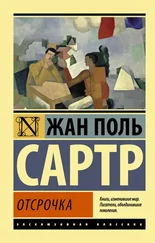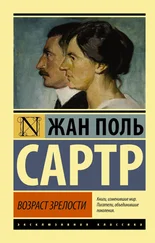Свободное действие отличается от несвободной спонтанности тем, что последняя есть только нерефлексированное сознание мотивов через простой проект действия. Для движущей силы в нерефлексированном действии совсем нет объекта, а только неполагающее сознание себя. Структура свободного действия, напротив, требует появления рефлексивного сознания, которое постигает движущую силу как квазиобъект или даже как психический объект через отражающее сознание. Для психического объекта движущая сила, постигаемая с помощью отражающего сознания, оказывается отделенной. Используя знаменитую формулу Гуссерля, скажем, что простая свободная рефлексия своей структурой рефлексивности осуществляет эпохе по отношению к мотиву, она держит его в отстранении, она ставит его в скобки. Таким образом, можно наметить некоторый вид оценочного решения, так как более глубокое ничтожение отделяет рефлексивное сознание от отражающего сознания или движущей силы и, действительно, движущая сила является отстраненной. Однако известно, что если результат рефлексии должен расширить трещину, которая отделяет для-себя от него самого, то это не является тем не менее его целью . Целью рефлексивного разделения является, как мы это видели, вернуть отражающее, с тем чтобы конституировать эту нереализуемую целостность «в-себе-для-себя», которая является основной ценностью, полагаемой для-себя в самом появлении его бытия. Если, таким образом, воля по своей сущности рефлексивна, ее намерением совсем не является решать, какая цель должна быть достигнута, потому что ставок больше нет; глубокое намерение воли состоит скорее в способе достижения этой уже поставленной цели. Для-себя, существующее в свободном виде, хочет возобновить себя, поскольку оно решает и действует. Оно не хочет быть только движимым к цели, не хочет быть тем, что выбирает себя в качестве направляемого к цели; оно хочет возобновить себя как спонтанный проект к такой-то и такой-то цели. Идеалом воли как раз и является быть «в-себе-для-себя» в качестве проекта к определенной цели; это, очевидно, рефлексивный идеал и смысл удовлетворения, которое сопровождается суждением типа: «Я сделал то, что хотел». Но также очевидно, что рефлексивное разделение вообще имеет свое основание в проекте более глубоком, чем оно само, которое мы назвали в главе III второй части за неимением лучшего наименования «мотивацией». Сейчас, когда мы определили мотив и движущую силу, необходимо назвать этот проект, который поддерживает рефлексию, интенцией . Стало быть, в той мере, в которой воля есть случай рефлексии, подготовка к действию по свободному плану требует в качестве основы более глубокую интенцию. Для психолога недостаточно описать такого субъекта как реализующего свой проект в форме свободной рефлексии; необходимо еще, чтобы он был способен показать нам глубокую интенцию , которая означает, что субъект реализует свой проект в форме проявления воли лучше, чем в любой другой форме; разумеется, люоои иной спосоо сознания давал оы ту же самую реализацию, если цели поставлены первоначальным проектом. Таким образом, мы достигли свободы более глубокой, чем воля, просто показывая, что у нас больше внутренних побуждений (exigeants) в отличие от психологов, которые, ставя вопрос « почему? », ограничиваются констатацией способа сознания как волевого.
Этот краткий анализ не имел в виду исчерпать проблему воли; для этого нужно было бы предпринять феноменологическое описание воли самой по себе. Это не наша цель; мы просто показали, что воля не является привилегированным обнаружением свободы, а есть психический факт с присущей ему структурой, который конституируется по той же самой схеме, как и другие психические факты, и основывается, как и они, на первоначальной и онтологической свободе.
Одновременно свобода обнаруживает себя как некое не анализируемое целое; мотивы, движущие силы и цели так же, как и способ их постижения, организованы единообразно в рамках этой свободы и должны пониматься исходя из нее. Можно ли сказать, что необходимо представлять свободу как ряд непостоянных движений, сравнимых с эпикурейским clinamen? Свободен ли я желать чего бы то ни было, в какой бы то ни было момент? И должен ли я каждый раз, когда хочу объяснить тот или иной проект, обращаться к иррациональности случайного и свободного выбора? Поскольку казалось, что признание свободы имеет следствием опасные концепции, находящиеся в полном противоречии с опытом, здравые умы отвернулись от веры в свободу; можно даже утверждать, что детерминизм, если не смешивать его с фатализмом, был бы «более гуманным», чем теория свободной воли; если же подчеркнуть строгую обусловленность наших действий или, по крайней мере, дать основание каждому из них, и если ограничиться только психической сферой, отказавшись искать обусловленность действий в единстве универсума, то обнаружится, что последовательность наших действий — в нас самих; мы действуем так, каковы мы сами, и наши действия участвуют в создании нас самих.
Читать дальше