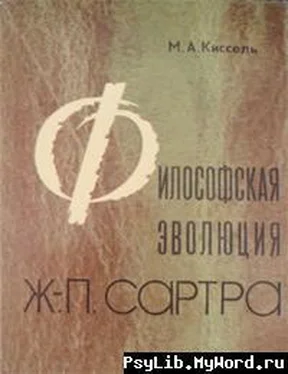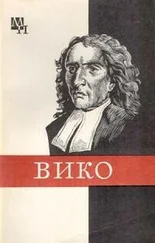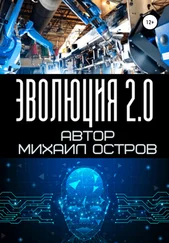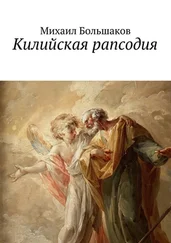Таким образом, с точки зрения феноменологии, реальность и есть явление, «за» которым ничего не скрывается и вообще ничего нет. Эту позицию Сартр именует «монизмом феноменов», позволяющим преодолеть целую серию «дуализмов» и покончить с бесплодной борьбой абстрактных противоположностей, которая наполнила собой всю историю философии. Это прежде всего касается противоположности внешнего и внутреннего, ибо явление само себя раскрывает до конца и в нем не остается ничего потаенного. Приходит конец и дуализму бытия и видимости, или, как говорил в свое время Ницше, иллюзии «мира за сценой». Явление получает статус реальности и перестает быть «покрывалом обмана», скрывающим истинную природу бытия. Вместе с тем ликвидируется и противоположность возможности и действительности, так как все, что является, становится действительным, наличным, хотя бы в фантазии.
В свете феноменологической перспективы теряет смысл и противопоставление явления сущности. «Явление обнаруживает сущность, оно есть эта сущность. Сущность сущего… есть принцип серии (явлений, — М. К.). Но сущность как принцип серии есть определенное сцепление явлений, т. е. она сама — явление. Это объясняет, как возможна интуиция сущности» [13] Ibid., p. 8.
. Различие между непосредственным явлением (чувственным образом вещи) и ее сущностью оказывается всецело относительным, т. е. проходит внутри самой сферы явлений, ибо сущность тоже должна быть зафиксирована в ее непосредственной данности сознанию, и, следовательно, она тоже представляет собой явление, но только более глубокого порядка. Отсюда и требование Гуссерля: описывать, а не конструировать, описывать все, что дано сознанию, что проступает в нем, и притом именно так, как оно непосредственно проявляется, ничего не примысливая из головы. Эту установку Гуссерль называл «принципом всех принципов». Никаких абстрактно-теоретических построений, ничего «потустороннего», лежащего за пределами сознания и обладающего самостоятельным бытием.
Отождествление реальности с различными видами непосредственной данности сознанию придает феноменологии неприкрыто идеалистический характер, несмотря на довольно сложные манипуляции Гуссерля с понятием «интенциональности» — направленности сознания на объект, находящийся вне его. Всякий акт сознания указывает на нечто, что в нем имеется в виду: восприятие дерева, воспоминание о пережитом, представление о будущем. Казалось бы, здесь найден выход из тупика идеалистической догматики: сознание оказывается накрепко связанным с реальностью, на которую оно всегда направлено. Но сам Гуссерль воспользовался тезисом об интенциональности сознания для более изощренного, рафинированного выражения идеалистической позиции. Оказывается, объекты, в конечном счете, обладают лишь иллюзией внешнего бытия, ибо «внешнее» существует только, в свою очередь, для внешнего, поверхностного слоя «эмпирического сознания», который опознается в актах самонаблюдения, когда сознание «следит» за собственными действиями, обращается на самое себя и делает уже себя, а не внешний мир своим предметом. Декартовское «я мыслю», выражения типа «жив!» (когда человек, например, приходит в себя после сильного потрясения), «я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты» как раз и обозначают состояние, которое на философском языке называется рефлексией самосознания. Вот по отношению к такой рефлексии мы имеем право говорить о внешних предметах.
Но, по мысли Гуссерля, этот процесс рефлексии можно продолжить и далее, вплоть до того пункта, когда в сознании не окажется никакого индивидуального содержания или особенностей, ничего именно мне, Петру, Павлу и т. п. присущего, ничего, кроме общей формы отнесения актов сознания к «чистому субъекту» — носителю этих актов. Этого «чистого субъекта» Гуссерль именует «трансцендентальным я».
Когда Гуссерль говорит о первичной рефлексии, эмпирическом самосознании, он еще не покидает почвы фактов, но как только в его рассуждениях появляется мифическое «трансцендентальное я», место непредвзятого философского исследования занимает апологетика идеалистических догм. Идеализм Гуссерля — настолько явный и, можно сказать, традиционный, что у него почти не нашлось верных последователей, готовых идти до конца вслед за учителем.
Сартр был среди тех, кому мало импонировал трансцендентальный идеализм Гуссерля. Первые его самостоятельные шаги в философии связаны с критикой идеалистических заблуждений Гуссерля, но, освобождаясь от этих заблуждений, Сартр тем не менее оставался в круге идеалистических представлений, как он сам в этом признавался много лет спустя. Критику феноменологической традиции он ведет в двух расходящихся из одной точки направлениях: видоизменяя одновременно и концепцию сознания, и теорию бытия Гуссерля. В результате получилось нечто не похожее ни на одно ранее сформировавшееся философское учение и вместе с тем похожее сразу на многие из них. Это нечто и получило название «экзистенциализма» (философии существования) Сартра.
Читать дальше