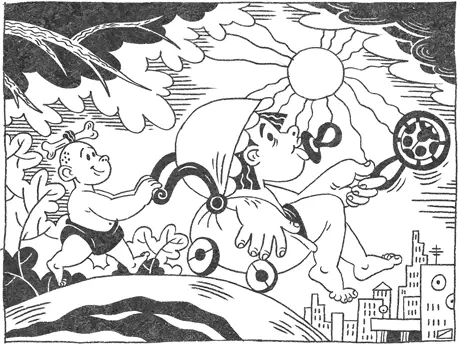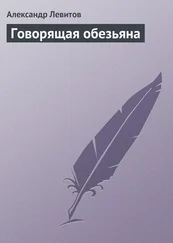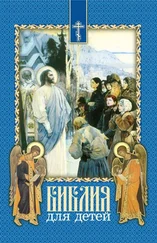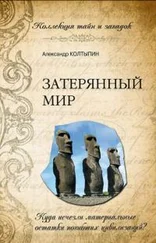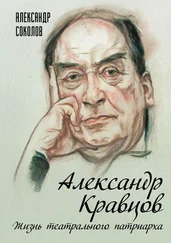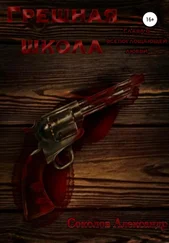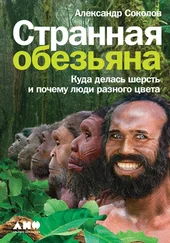Гулд, в русле победившего дарвинизма, поднимает вопрос о цели неотении. Зачем нам эта заторможенность? По мнению американского палеонтолога, неотения сотворила главные отличительные черты человека — крупный мозг, прямохождение, длинное детство. А стало быть, мы получили свободные кисти и перспективы использования орудий, сильный интеллект. Необходимость долгое время заботиться о потомстве привела к возникновению крепких семейных связей, отсюда — высокая социальность человека, ведь семья — ячейка общества. И вы еще спрашиваете, зачем нам неотения?
Со времени, когда Гулд написал свою книгу, у ученых была масса возможностей сравнить ход развития человека и шимпанзе. Такие исследования показывали, что некоторые — хотя и далеко не все — особенности нашего организма действительно можно объяснить неотенией. Например, общую форму черепа, прежде всего его мозговой части {11} . Кроме того, выяснилось, что нейроны в некоторых ассоциативных областях коры человеческого мозга гораздо дольше, чем у других приматов, сохраняют «детские» активность и пластичность, необходимые для эффективного обучения {12} .
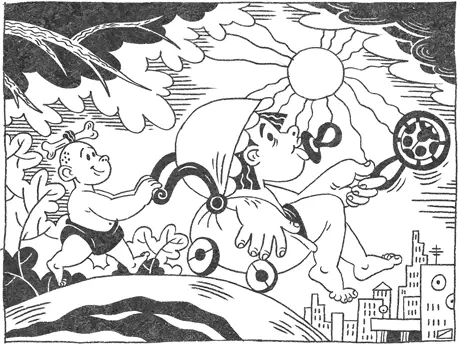
Вместе с тем к одному и тому же результату организм может приходить различными путями. Простейший пример. Более крупный мозг получается как минимум двумя способами: либо если растет быстрее, чем обычно, либо если растет с обычной скоростью, но дольше. У человека, как оказалось, задействованы сразу оба варианта: мозг растет и дольше, и с большей скоростью {13} . Но не торопимся ли мы, когда придумываем простое объяснение биологическим процессам, не зная их генетической основы и условий, в которых формировался тот или иной признак? Реальная картина может оказаться гораздо сложнее. Например, хотя относительный размер мозга у человека действительно «неотеничный» (в сравнении с другими приматами), его строение уникально: увеличенные области коры, связанные с речью и моторикой, и другие особенности нашего «думательного» органа совсем не копируют детенышей обезьян {14} . Исследователи сходились на том, что если неотения и проявлялась в эволюции человека, то лишь наряду с другими эволюционными факторами. Так, сравнивая темпы роста человека и других приматов, специалисты обнаружили признаки ретардации раннего развития… и акселерации позднего {15} .
Не играем ли мы в игру, которая выводит нас за пределы биологии (и вообще за пределы науки)? Нет ли в теории неотении в принципе некоторого лукавства? Поясню на нашем главном примере: допустим, отсутствие волос на теле — это неотения. Но на голове у нас, наоборот, волосы растут интенсивнее и дольше, чем у большинства обезьян. Ну что ж… Значит, произошла «ретардация темпов роста волос»: они такие длинные потому, что сохранили скорость роста, характерную для дородовой стадии. Нет волос — неотения. Длинные волосы — тоже неотения. Какая-то демагогия! А вот другой случай: многие люди (хотя и не все) способны усваивать молоко во взрослом возрасте, в отличие от большинства млекопитающих. Фермент лактаза, расщепляющий молочный сахар, у таких людей — в том числе у автора этих строк — продолжает вырабатываться всю жизнь. По идее, налицо явная неотения, ведь молоко пьют груднички. А может, не неотения, а адаптация к новому рациону? Мы знаем, что мутации, благодаря которым синтез лактазы не снижается, распространились, когда появился ценный пищевой ресурс — молоко домашних животных у народов, потреблявших это молоко {16} .
Хотя молекулярные механизмы, управляющие развитием организма, еще слабо изучены, гипотезу неотении можно попробовать проверить методами генетики. Если речь действительно идет о торможении развития определенных признаков, это значит, что за их формирование у человека отвечают те же гены, что у обезьян, только переключения с «детской» конфигурации работы генов на «обезьянью взрослую» не происходит. А может, мы видим лишь имитацию «детскости», а на самом деле генетическая основа — иная?
В 2009 году группа исследователей, включающая знаменитого палеогенетика Сванте Пэабо, а также российского биолога Филиппа Хайтовича, сравнила работу генов в префронтальной коре головного мозга человека, шимпанзе и макаки-резуса {17} . В результате анализа 3000 генов исследователям удалось выявить более 100 «неотеничных» — их экспрессия [10]у человека соответствовала экспрессии у шимпанзе более юного возраста. Интересно, что разница в работе генов между людьми и обезьянами оказалась максимальной в возрасте около 10 лет — незадолго до начала полового созревания у человека. Надо заметить, что речь идет не о глобальном «торможении развития», а только об ограниченной группе генов, связанных с формированием мозга.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Соколов Странная обезьяна [Куда делась шерсть и почему люди разного цвета] обложка книги](/books/396704/aleksandr-sokolov-strannaya-obezyana-kuda-delas-sh-cover.webp)