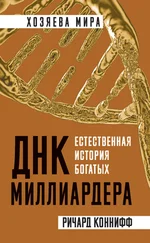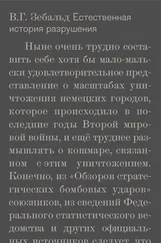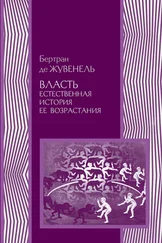Несмотря на исследования, проведенные Айхенвальдом и Шайнфилдом, клиники, врачи и пациенты единодушно выбрали третий подход — уничтожение. Он казался более современным; в этом виделось великое будущее, когда люди смогут держать под контролем окружающий мир, используя все новые и новые вещества — антибиотики, пестициды или гербициды. Хотя это создавало проблемы, но в будущем мы могли с ними справиться. Такой подход подкупал своей кажущейся простотой. Антибиотик метициллин упал в цене и был доступен в любой больнице. Применять его было легко и не надо ничего «возделывать», инокулировать или выращивать. Метициллин представлял собой первую волну второго поколения антибиотиков — синтетических веществ, которые обладали более высокой эффективностью. Метициллин был способен справиться с инфекциями, вызываемыми штаммом 80/81 золотистого стафилококка.
Но уже в те далекие годы многим, а не только Айхенвальду и Шайнфилду было понятно, что рано или поздно бактерии адаптируются даже к новым антибиотикам, точно так же, как вредители и сорняки приобретают устойчивость к пестицидам и гербицидам. Об этом говорил еще открыватель пенициллина Александер Флеминг в своей Нобелевской речи 1945 г. [310]Ученые признавали, что использование антибиотиков, особенно у новорожденных, помимо уничтожения патогенов, создает благоприятные условия для группы необычных бактерий, которые едва ли можно назвать полезными. То же самое отмечал в своей работе Шайнфилд, но писал об этом как о чем-то само собой разумеющемся и общеизвестном. Успех применения первых антибиотиков был очевиден, но наблюдательных людей беспокоили его долговременные последствия: принять лекарство было очень легко, но антибиотики давали побочный эффект, убивая другие микробы, в том числе полезные виды, живущие внутри нас или на коже, а по мере выработки устойчивости к ним в перспективе должны были становиться и вовсе бесполезными. Если применять антибиотики осмотрительно и в умеренных дозах, это может произойти нескоро. В противном случае следовало ожидать высокой скорости приспособления. И, при полном понимании всех этих побочных эффектов, медицина выбрала радикальный подход. Антибиотики стали использовать очень часто и, как правило, даже не задумываясь, так ли это необходимо.
Когда Флеминг и другие ученые предсказывали, что микробы выработают устойчивость к антибиотикам, они знали, что это произойдет, но не знали, каким именно образом. Сегодня мы вполне понимаем эти механизмы. В крупных популяциях бактерий некоторые особи, вероятно, имеют (или приобретают) мутантные гены, позволяющие им выжить после воздействия антибиотика. Такая бактерия необязательно должна быть мощным конкурентом, достаточно просто выжить, потому что антибиотик убьет всех соперников. Появление таких мутантов и рост их числа в присутствии антибиотиков можно наблюдать в лабораторных условиях. К примеру, в одном из недавних экспериментов Майкл Бейм, Рой Кишони и их коллеги по Гарвардской медицинской школе установили длинный лоток (60 × 120 см), заполненный питательной средой на основе агар-агара. В этом эксперименте ученые решили перехитрить бактерии. Лоток состоял из нескольких прямоугольных чашек Петри, в которых к агар-агару был подмешан антибиотик. В левой и правой чашках, куда помещали бактерии, антибиотика не было. Концентрация антибиотика увеличивалась по направлению от краев к центру, и в самом центре она многократно превышала концентрацию, обычно используемую в медицине, доходя до предельно возможных значений. Далее все, что происходило, ученые снимали камерой.
Сначала высеянный бактериальный штамм полностью заселил агаровый субстрат, где не было антибиотика, покрыв его поверхность живым ковром. Со временем запасы пищи здесь истощились. Бактерии перестали делиться. Совсем рядом было целое поле еды, но оно было напичкано антибиотиком. В этих условиях любая бактерия, способная употреблять такую пищу, имеет высокие шансы выжить и дать начало следующим поколениям, которые монополизируют кормовой ресурс. Они добились бы большого успеха, даже проигрывая в эффективности тем микробам, что росли на свободном от антибиотиков субстрате. В начале эксперимента ни одна бактериальная клетка не имела генов, дающих ей устойчивость к антибиотику. Все были равно беззащитны. Если бы все так и оставалось, то бактерии остановились бы у опасной черты и на этом эксперимент завершился. Но они не остановились.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
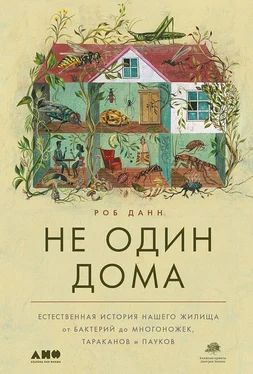
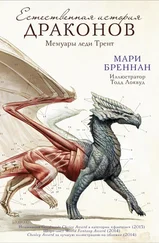
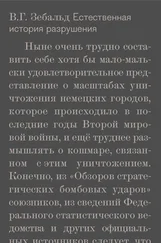

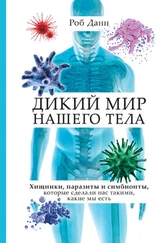

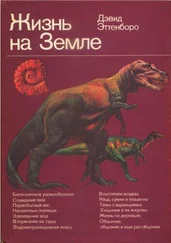
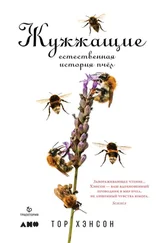
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Путешествие на «Василиске» [litres]](/books/420782/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)