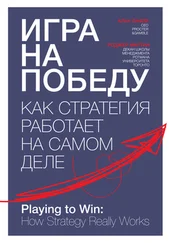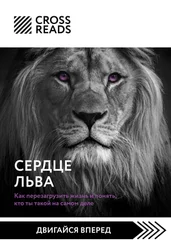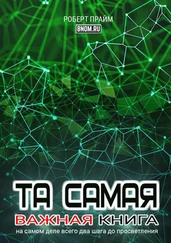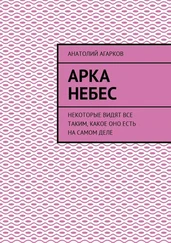Если говорить начистоту, это не вполне так. В конце концов, они способны различать два тона: синий и оппонентный ему желтый. Это сине-желтое измерение в сочетании с варьированием яркости создает, в сущности, бесконечное множество оттенков (и пусть тонов всего два). И если бы мы взялись настаивать, что более скудная цветовая палитра млекопитающих не заслуживает права именоваться цветовым зрением, то птицы, рептилии и пчелы были бы вправе заявить, что цветового зрения нет и у нас, поскольку их цветовое пространство куда многомернее нашего. Если видимый нами мир красочнее того мира, который видит большинство других млекопитающих, то цветовосприятие этих не относящихся к млекопитающим животных еще богаче. Но пусть кто-то из них попробует заявить, что я не обладаю цветовым зрением!
Кровь в глазах
Итак, мы стали лучше понимать принципы, на которых строится наше цветовосприятие. Но по-прежнему неясно, почему тот или иной предмет имеет для нас ту или иную окраску. Почему трава видится нам зеленой, а не фиолетовой? Почему небо голубое, а не красное? Пока нам известно, кроме прочего, что наше восприятие красного цвета является чистым, что пурпурный ощущается как смесь красного и синего, что среди видимых нами оттенков не существует такой категории, как красновато-зеленые. Но описанное здесь цветовое пространство — это, в конечном счете, просто палитра красок, при помощи которой можно было как угодно расцветить окружающие предметы. Однако наш мир использует эту палитру строго определенным образом. Трава зеленая, а не фиолетовая. Небо голубое, а не красное. То, в какие цвета будет “выкрашен” тот или иной предмет, зависит от особенностей спектральной чувствительности нашей зрительной “аппаратуры”. Помимо самого факта, что мы сопоставляем сигналы, получаемые от имеющихся у нас колбочек трех типов — чувствительных к коротким, средним и длинным световым волнам, — нам необходимо знать и то, к каким конкретно длинам волн они чувствительны. В разделе “Зеленые фотоны” уже упоминалось, что когда мы говорим о цвете, речь идет не столько о длинах волн, сколько о восприятии сложной смеси световых лучей со всеми возможными длинами волн (в рамках видимой части спектра), исходящей от каждого предмета. В ходе эволюции у нас выработалась способность видеть не фотоны, а определенные предметы и поверхности — в первую очередь поверхность кожи.
На рис. 14 показано, к каким длинам волн восприимчивы наши колбочки каждого из трех типов. Вы, конечно, обратите внимание на ту странность, что чувствительности колбочек M и L едва не наступают друг другу на пятки. На первый взгляд это кажется чудовищным инженерным просчетом. Разумнее было бы снимать показания через одинаковые промежутки спектра, чтобы S-колбочки были восприимчивы к коротким световым волнам, M-колбочки — к средним, а L-колбочки — к длинным. Именно так устроены фотоаппараты. По этому же принципу работают глаза птиц, пресмыкающихся, рыб и пчел (хотя у перечисленных животных свет анализируют не три, а четыре типа колбочек). Обладание фоторецепторами двух различных типов для восприятия волн практически одинаковой длины кажется бессмысленной расточительностью.
Но в этом безумии есть логика. На это намекает рис. 14, где, помимо графиков чувствительности колбочек, можно увидеть, как выглядит типичный спектр отражения человеческой кожи. Его самой важной отличительной чертой является характерный изгиб в форме буквы W — эта небольшая загогулина появляется в связи с особенностями поглощения света окисленным гемоглобином, содержащимся в подкожной крови. Обратите внимание, насколько те длины волн, к которым колбочки М и L наиболее восприимчивы, совпадают соответственно с левым нижним коленом и с центральным пиком этой W. Как нам вскоре станет ясно, именно такое наложение графиков и есть тот решающий фактор, которому мы обязаны своей способностью к эмпатии.
На рис. 15 видно, как спектр отражения кожи меняется в зависимости от количества подкожной крови и ее насыщенности кислородом. (Здесь показано, как выглядит этот спектр уже после того, как свет прошел через глаз, — именно в таком виде он достигает колбочек. А на рис. 14 спектр отражения кожи изображен до того, как глаз исказил его. Наш глаз не является абсолютно прозрачным, и поэтому не весь попадающий в него свет достигает сетчатки.) Синий и желтый графики показывают, как интенсивность кровоснабжения влияет на спектр. Главное изменение при переходе от недостатка крови (желтый график) к ее избытку (синий график) заключается в том, что W-образный участок кривой сдвигается вниз. Все остальные ее участки остаются практически неизменными. По мере того как количество крови возрастает, средняя совокупная активность М- и L-колбочек падает, и кожа выглядит более синей. А если изменять те же параметры в обратном направлении, она желтеет. (Кроме того, увеличение количества крови снижает общую яркость кожи, а недостаточное кровоснабжение, напротив, увеличивает ее. Уж не поэтому ли синий слывет у нас “темным” цветом, а желтый — “светлым”?)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
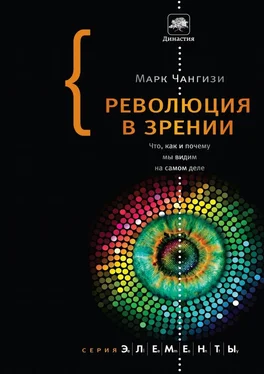

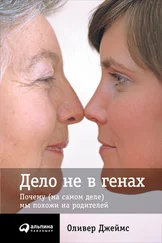
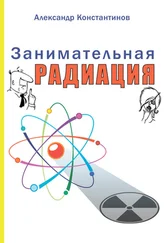
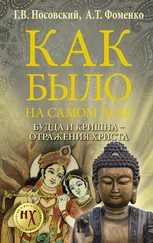

![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)