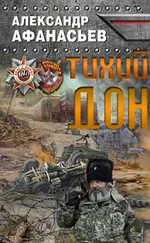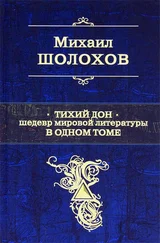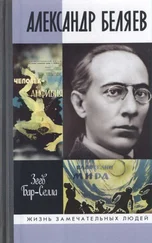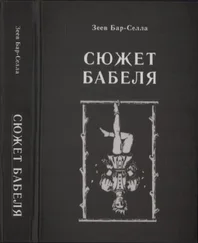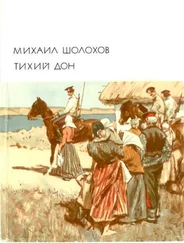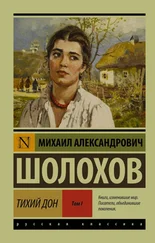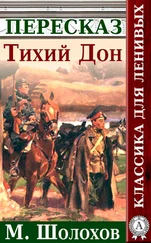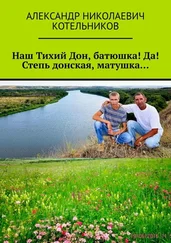- Это что за хутор? - спросил у вахмистра казачок Митякинской станицы, указывая на купу оголенных макушек сада.
- Хутор? Ты про хутора забывай, стригун митякинский! Это тебе не Область Войска Донского.
- А что это, дяденька?
- Какой я тебе дяденька? Ать, нашелся племяш! Это, братец ты мой, - имение княгини Урусовой».
____________________
*Семанов С. Н. В мире «Тихого Дона». М., «Современник», 1989, с. 147. **Сам Вересаев на это жаловался: «Не люблю я этой книги. Она написана вяло, неврастенично, плаксиво и в конце концов просто плохо. […] Но как раз «Записки врача» дали мне такую славу, […] которой никогда не имели многие писатели, гораздо более меня одаренные. Знал я несколько таких. […] В вагоне скажет случайному спутнику свою фамилию, а тот: - Чем изволите заниматься? […] Вот этого со мною не бывало. Назовешь свою фамилию мало-мальски грамотному человеку, радостно-изумленное лицо: - Автор «Записок врача»?!» («Воспоминания» - в кн.: Вересаев В. В. Собр. соч. в 5-ти томах. Т. 5. М., 1961, с. 437).
____________________
Таков облик текста в послевоенных изданиях. В публикациях более ранних, кроме написания
«Радзивиллово» с одним «л», а в речи персонажей «што» вместо «что», текст обнаруживает одно отличие - в предпоследней фразе на месте восклицания «Ать» стоит «Ашь».
Слово «ашь» ни в донских, ни в южновеликорусских говорах не отмечено, но нет в них и слова «ать» («ать» в известном сочетании «Ать-два!» представляет собой результат изменения слова «Раз» в аллегровой речи). Впрочем, в говорах Южной России можно найти нечто близкое - междометие «ат», выражающее «возражение, отрицание, пренебрежение, укоризну, недовольство, досаду и т. п.: Ат! Много мы таких видели! (курск.); Ат! Куды там ему ехать! (воронеж.)»*. Чем же была вызвана замена несуществующего «ашь» не более реальным «ать»?
Ответ обнаруживается в самом романе - в главе 14-й части 2-й (книга 1):
«Черт паршивый! А т ь сукин сын! - багровея, орал Сашка ломким голосом. […] Умру - и то приползу по цибарке кринишной дать, а он, а т ь, придумал!… Тоже!..»
Итак, отсутствующее в диалектных словарях «ать» в романе всетаки имеется. Откуда оно в роман проникло - вопрос другой, на который мы еще попытаемся ответить. Но, пока что, разберемся с «ашь».
Произносит это слово «бравый лупоглазый вахмистр Каргин». Вахмистра мы наблюдаем в разных ситуациях. Вот, например, в 5-й главе части 3-й ему встречается ограбленный казаком еврей:
«Вахмистр Каргин приотстал от сотни и под смех, прокатившийся по рядам казаков, опустил пику.
- Беги, жидюга, заколю!..
Еврей испуганно зевнул ртом и побежал. Вахмистр догнал его, сзади рубанул плетью. […] еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к вахтмистру. Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь.
- За что?.. - рыдающим голосом крикнул он.
Вахмистр, масля в улыбке круглые, как казенные пуговицы, коршунячьи глаза, ответил отъезжая.
- Не ходи босой, дурак!»
Понять этот диалог позволяет знание прибауток. Собиратель городского фольклора Евгений Иванов сохранил для нас такой разговор старомосковских книжников: «Загнал Ровинского-то? Кому? Французу? Десяти листов не было? Так и надо! Не ходи босиком, а то по пяткам»**.
Иными словами, вахмистр приказал еврею не быть растяпой. Следуя методике школьных сочинений, мы, на основании данного отрывка, можем охарактеризовать вахмистра Каргина как носителя образной народной речи. Точно так же ведет он себя и в разговоре с молодым казаком, называя того «стригуном митякинским». Казачок - родом из станицы Митякинской, «стригун» - донское название жеребенка, а в шутливой речи - молодежи. Лошадь, как эталон и исходный пункт при сравнении, - понятная особенность у такого кавалерийского племени, каковым были донские казаки.
Но никакого знания коннозаводства не требуется, чтобы сделать выбор между «ать» и «ашь», поскольку выбор этот диктуется самим текстом:
«Какой я тебе дяденька? А ш ь нашелся п л е м я ш!»
На неправильное (не по уставу) обращение рядового казака к старшему по званию вахмистр отвечает прибауткой, в которой слово «ишь» преобразовано в «ашь» для создания рифмы:
«Ашь» - «племяш»!
Шолохову данная прибаутка была незнакома, в силу чего он и решил, что ошибся: спутал в Авторской рукописи буквы «ш» и «т». Такая ошибка чтения вполне вероятна, если в почерке Автора эти буквы были сходны или неразличимы по начертанию.
Обратимся ко второму случаю употребления «ать» в романе, который теперь - после анализа колебаний «ашь»/«ать» - оказывается единственным.
Читать дальше