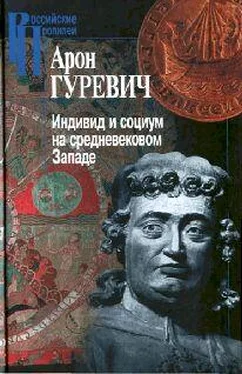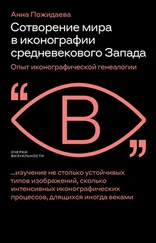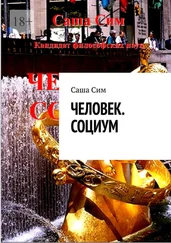рый выстраивается в красноречивые и убедительные поучения. В проповедях Бертольда, каковые в определенном смысле могут быть расценены как энциклопедия жизни его времени, аккумулирован огромный и всесторонний опыт монаха-францисканца, который интенсивно общался с людьми, принадлежавшими к самым разным сословиям, и разделял с ними их интересы, вместе с тем подчиняя их требованиям христианской морали и догмы.
Но не только необычайно широкий охват явлений социальной действительности и живейший интерес Бертольда к самым разным ее сторонам должны привлечь внимание исследователя. Бертольд Регенсбургский, несомненно, один из наиболее оригинальных умов своего времени, но мощь его интеллекта проявлялась не в создании величественных «сумм», обобщавших и классифицировавших многоразличные предметы, а в проникновении в такие пласты общественного сознания, какими великие теологи эпохи пренебрегали. Контраст между кельей ученого и кафедрой проповедника или даже, в случае Бертольда, чистым полем, где его слушают тысячи людей, здесь особенно разителен.
Итак, обратимся к проповеди Бертольда, озаглавленной «О пяти фунтах» («талантах»). Этот отличающийся оригинальностью текст, по моему убеждению, еще не получил должной оценки историков. Исследователями проблемы личности в Средние века он вообще, насколько мне известно, не привлекался. Между тем по степени проникновения в существо общественных отношений и понимания органической связи между человеческой личностью и надличностным общественным целым проповедь эта не имеет параллелей ни в творчестве Бертольда, ни в других подобных сочинениях эпохи. Это замечательное произведение проливает свет на возможности и пределы средневековой «антропологии» 4.
Для того чтобы вернее понять рассуждения Бертольда, необходимо упомянуть об исторической ситуации, в которой они появились. Его проповедническая деятельность развертывалась в обстановке «междуцарствия» (interregnum) в Империи. Ослабление центральной власти, возвышение курфюрстов, рост междоусобиц, рыцарский разбой, упадок права, усугубившийся произвол господ по отношению к подданным, угнетение крестьян, нестабильность положения городов – таковы некоторые черты жизни Германии в 50-е – начале 70-х годов XIII века. Как раз на этот период приходятся проповеди Бертольда (он умер в 1272 году).
Случайно ли это совпадение? В такие критические моменты неурядиц и разброда мысль с особой настойчивостью обращается к вековечным вопросам о сущности и природе человека и его предназначении. Недаром именно в указанный период напряженные духовные искания в Германии порождают своеобразный
подъем художественной и интеллектуальной активности. В это время в Кёльне работает выдающийся представитель высокой схоластики Альберт Великий, у него проходит обучение Фома Аквинский. В период «междуцарствия» в Германии творят такие поэты, как Тангейзер, Ульрих Лихтенштейнский, Конрад Вюрцбур-гский, Марнер. По-видимому, в это время была создана часть знаменитого вагантского цикла «Carmina Burana». Приблизительно в эти же годы была сочинена Вернером Садовником первая в Германии поэтическая «крестьянская повесть» «Майер Хельмбрехт»; ее идейное содержание непосредственно перекликается с пафосом проповедей Бертольда.
В особенности же хотелось бы подчеркнуть, что духовные искания, характерные для этого периода, выразились в наивысших достижениях классической немецкой готики – творениях прославленной «Наумбургской артели» скульпторов и архитекторов, работавшей в Майнце, Мейссене и Наумбурге. Они создали замечательный скульптурный ансамбль в Наумбургском соборе Петра и Павла. Поражают одухотворенность статуарных изображений его основателей и донаторов, супружеских пар – Эккехарда и Уты, Германа и Реглинды – психологически углубленные и эмоционально полнокровные, причем мужские лица более индивидуализированы, нежели женские 5. Евангельские сцены западного леттнера в том же соборе («Тайная вечеря», «Взятие Христа стражниками», «Христос пред Пилатом», «Иуда, получающий мзду») кажутся бытовыми зарисовками из жизни. Здесь мы впервые встречаемся с действительными художественными индивидуальностями немецкого Средневековья.
Нужно отметить, что в последующие десятилетия готическая скульптура в Германии уже не достигала подобной высоты. Перед нами прорыв, имевший относительно недолгую протяженность во времени и не закрепленный в культуре следующих поколений. Видимо, этот прорыв был обусловлен специфической социально-психологической и культурно-идеологической ситуацией в Германии середины и начала второй половины ХШ века.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу