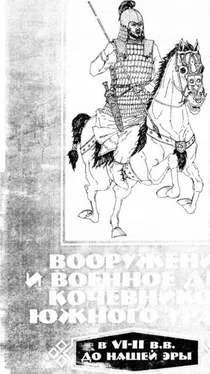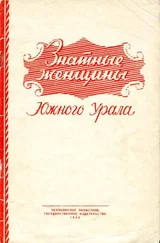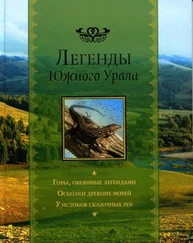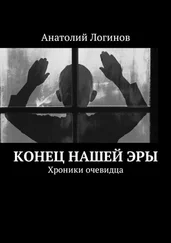ВОЕННОЕ ДЕЛО КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В VI-II ВВ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ
1. КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ И СТРУКТУРА ВОЙСКА КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА В КОНЦЕ VI - РУБЕЖЕ V-IV вв. ДО Н. Э.
(I ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА)
В нашем распоряжении имеется 425 погребений VI-II вв. до н.э… содержащих предметы вооружения. В хронологическом плане воинские комплексы распадаются на три группы. Поскольку абсолютная датировка кочевнических древностей региона чрезвычайно затруднена, мы выделили ряд признаков, характеризующих каждую хронологическую группу.
Для группы I выделены признаки, характеризующие "савроматскую" культуру.
Погребальный обряд. Погребения на древнем горизонте, особенно в восточной части ареала, сожженные или обожженные костяки, деревянные конструкции с опорными столбами, могильные ямы простой формы, широтные ориентировки костяков.
Погребальный инвентарь. Мечи и кинжалы "скифского" типа (типы I-III), предметы, выполненные в зверином стиле, массивные бронзовые наконечники стрел соответствующих типов, конское снаряжение, включающее в себя бронзовые псалии, выполненные в зверином стиле, клювовидные распределители ремней, жертвенные столики и бусы с сосцевидными налепами. Незначительная часть комплексов с выделенными признаками встречается и в более позднее время, и в этом случае требуется специальное рассмотрение.
Исходя из вышеперечисленных признаков в первую хронологическую группу (конца VI - рубежа V-IV вв. до н. э) мы включили 141 погребение [Сальников, 1952. С.95-96; Сорокин. 1958. С.81; Мошкова, 1962. С.206.241; Смирнов. 1962. С.83-93; Смирнов. 1964. С.24-74; Мошкова, 1972. С.79-78; Смирнов. Попов, 1972. С.3-24; Смирнов, 1975; Мошкова. Кушаев, 1973. С.262-275; Кадырбаев, Курманкулов,
С.137- 56; Кадырбаев, Курманкулов, 1977. С.103-115; Смирнов,
С.3- 51; Смирнов, 1981. С.76-78,82-84; Пшеничнюк. 1983. С.8-75; Кадырбаев, 1984. С.84-93; Воронова, Порохова, 1992; Васильев. Федоров, 1995. С.154-166; Матвеева. 1972. С.259-261; Мажитов, 1974; Железчиков, 1976; Исмагилов. 1979; Исмагилов, 1980; Железчиков, Кригер, 1979; Мошкова, Железчиков. Кригер, 1980; Заседателева, 1980; Заседателева, 1982; Заседателева, 1984; Заседателева, 1986; Пшеничнюк, 1991; Агеев, 1992].
Как уже отмечалось, наиболее массовой категорией вооружения в первый период являлись лук и стрелы. 91,4 % всех воинских погребений содержат именно этот вид оружия. Выборка колчанных наборов из наиболее представительных комплексов показала, что в среднем "рабочий" колчан содержал около 40 наконечников стрел (приложение 3). Из 73 комплексов только в 14 случаях (19 %) количество их превысило 50 экземпляров, и только в 6 (8 %) - 100 экземпляров.
Как справедливо заметил К.Ф.Смирнов, лук был излюбленным оружием кочевников региона и в случае войны им пользовались все - от стариков до детей. Материал свидетельствует, что луки и стрелы носились в колчанах и налучьях, реже в горитах. Причем, судя по изображениям, налучья носились на спине, а колчаны крепились к поясу. Наконечники стрел первого периода отличаются своей массивностью и весом, что свидетельствует о больших пробивных способностях. Этот факт заставляет думать о наличии хорошо защищенного противника.
На втором месте в паноплии номадов региона этого времени стояли средства ближнего боя - мечи и кинжалы "скифского" типа - 53,9 % от общего количества воинских погребений (76 экз.). Согласно распространенной в оружиеведческой практике традиции, когда экземпляры длиной до 40 см считаются кинжалами, до 70 см - короткими мечами, а свыше 70 см - длинными, наш материал разбивается следующим образом [Мелюкова, 1964. С.47]. Из наиболее информативных 66 комплексов (см. приложение IV) 26 экземпляров (39,3 %) являются кинжалами, 35 экземпляров (53 %) - короткими мечами, и только 5 экземпляров, т.е. (7,5 %) длинными мечами. Средняя арифметическая длина клинка этого периода равна 46 см, что, очевидно, отражает реальность.
Археологический материал свидетельствует, что номады Южного Урала в конце VI-V вв. до н.э. избегали боя на средней дистанции. Этот факт пока трудно объясним. Можно лишь говорить, что на данном этапе развития в копьях не было необходимости, и эта категория оружия начала заполнять лакуну в арсенале кочевников только в конце V в. до н.э. Процесс принятия на вооружение среднедистанционных средств боя проходил под влиянием военных контактов со своими соседями, вероятно на севере.
Панцири в это время в археологическом плане не зафиксированы. Однако это не исключает возможности использования средств личной защиты изготовленных из подручных материалов - кожи и войлока, эффективность которых не раз подчеркивали как древние, так и средневековые источники. Е.В.Черненко доказал наличие таких панцирей у скифов [Черненко. 1964. С.148]. Применительно к кочевникам рассматриваемого региона такую вероятность также можно допустить.
Читать дальше