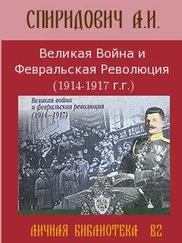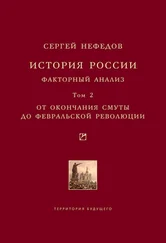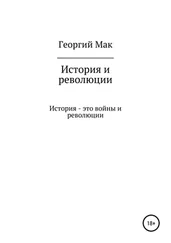Генерал Гурко, заменивший в ноябре 1916 года Алексеева на должности начальника штаба, начал проведение армейской реформы, по которой число батальонов в полку сокращалось с четырех до трех. Из высвобожденных таким образом батальонов, пополнив их некоторыми тыловыми резервами, предполагали сформировать т.н. "третьи дивизии": на каждые две существовавшие дивизии создавалось по одной новой, что увеличивало общее число дивизий на 50%. Гурко считал, что это даст дополнительные оперативные формирования, которые требовались Ставке для запланированного весеннего наступления 1917 года. Инициатива Гурко оказалась неудачной. К реформе приступили слишком поздно, она сильно повлияла на сплоченность фронта и угрожала задержать начало весенней кампании. Дивизии, находившиеся на передовых линиях фронта, как правило, отдавали тех солдат, которые были похуже, и с моральной, и с физической стороны. Передовые дивизии отказывались делить техническое оборудование и вооружение с новыми дивизиями, и они так и стояли в тылу, невооруженные и без снаряжения, образовав некоторого рода второсортный резерв, а не равноценные первоначальным дивизиям формирования. Когда началась революция, эта серошинельная масса "третьих дивизий" совершенно разложилась, превратившись в бездельную, нервозную, политически сбитую с толку толпу неизменных участников бесконечных митингов, столь характерных для улицы тех дней.'
Зимой 1916—1917 года начала ощущаться угроза развала в работе железнодорожного транспорта и в снабжении армии продовольствием и фуражом. Прежде всего, замедлилась замена подвижного состава на железных дорогах, не хватало исправных паровозов. Это в первую очередь затрудняло доставку таких громоздких грузов, как фураж. Но хотя в феврале 1917 года положение и казалось угрожающим, с уверенностью можно было ждать сезонных улучшений ко времени согласованного с союзниками весеннего наступления.
В добавление к трудностям с рабочей силой и транспортом, к концу 1916 года навис сельскохозяйственный кризис. Урожаи в России в течение всей войны были хорошие, но сбор урожая все более и более затруднялся, так как мобилизация поглотила массу рабочих рук. Особенно ощущалось в крупных хозяйствах. Изнашивалось также и сельскохозяйственное оборудование, и его почти нечем было заменить, потому промышленность переключилась на военное производство. По сходным причинам была затруднена добыча топлива, особенно на шахтах Донецкого угольного бассейна, где производство угрожающе падало.
Трудно сказать, в какой степени причиной неурядиц были небрежение или беспомощность правительства. Что бы ни делала администрация, трудности неизбежно должны были возникнуть - как они возникли в остальных воюющих странах - в результате необходимости поддерживать фронт. В России же ими воспользовались как предлогом, чтобы доказать, что правительство ведет страну "к гибели" и единственное спасение состоит в конституционных преобразованиях и создании "правительства народного доверия". Подобно тому, как Родзянко валил на Ставку вину за огромные потери, понесенные при брусиловском наступлении 1916 года, общественные организации пользовались любой критической ситуацией, возникавшей по мере развития военных действий, чтобы дискредитировать правительство и приблизить радикальные перемены, к которым они стремились.
В начале 1917 года центром внутриполитической борьбы стали на несколько недель кулуары Совещания союзников в Петрограде. На союзников, в частности, на лорда Милнера, нажимали в том смысле, чтобы они уговорили государя провести конституционные реформы. Генерал Гурко, разделявший точку зрения общественных организаций, пытался воздействовать непосредственно на государя.' Лорд Милнер, как мы увидим, был дипломатичнее и осторожнее, чем Гурко или британский посол в Петрограде сэр Джордж Бьюкенен. Потому ли, что не слишком был уверен, что люди, которым будет оказано "народное доверие", справятся с делом лучше, чем министры, назначенные царем? Перед отъездом из России он выступил несколько туманно, желая, очевидно, угодить всем. Тем не менее, его выступление передает атмосферу этого критического момента. Комментируя последнее заявление лорда Милнера, корресповдент "Таймса" (в последнем отправленном им до революции сообщении - 25 февраля/9 марта) замечает, что заявление это было "принято с удовлетворением". Он вставил также явно инспирированный русскими пассаж:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу