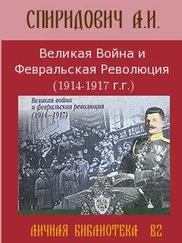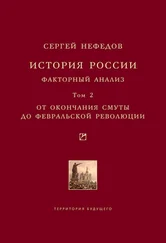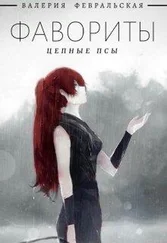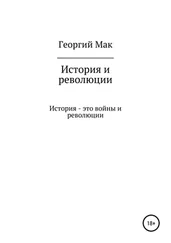Георгий Катков - Февральская революция
Здесь есть возможность читать онлайн «Георгий Катков - Февральская революция» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Февральская революция
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Февральская революция: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Февральская революция»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Февральская революция — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Февральская революция», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Первое официальное сообщение о создании Временного правительства появилось в утреннем выпуске газет 3 марта 1917 года. Это было обращение "к товарищам и гражданам", форма которого приводила в замешательство не меньше, чем содержание. В декларации говорилось, что временный "Комитет членов Государственной Думы при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг... такой степени успеха над темными силами старого режима, которая дозволяет ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти". После этого следовал список членов нового правительства под председательством кн. Г.Е. Львова. Поэтому казалось, что сообщение сделано от имени думского Комитета, который и есть учреждение, ответственное за создание нового правительства. Поскольку председателем этого Комитета был Родзянко, можно было ожидать, что он его и подпишет, один или совместно с другими членами. На самом деле было совсем не так. Вслед за подписью Родзянко следовали не имена членов думского Комитета, а имена назначенных этим Комитетом новых министров. Правда, некоторые имена есть в обоих списках. Но получается так, что думский Комитет как будто испарился, наподобие тех странных насекомых, которые, отложив яйца, умирают. Подписи новых министров, упомянутых в документе, могли иметь некий смысл, поскольку вторая часть документа содержит своего рода программу нового правительства, выработанную в переговорах между думским Комитетом и Исполнительным Комитетом Совета. Программа эта содержит восемь пунктов, излагающих руководящие принципы деятельности нового правительства и ярко отражающих столкновение, предшествовавшее соглашению между двумя комитетами. Пункты эти следующие: 1) Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористических покушений, военных восстаний и аграрных выступлений.16 2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих, в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. 3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания." 5) Замена полиции народной милицией и выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. 6) Выборы в органы местного самоуправления на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. 7) Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении. 8) При сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы, устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.
Таким образом, документ в начале оформлен как объявление Комитета Думы, а в конце превращается в заявление Временного правительства: "Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий".18
Публикуя эту декларацию, только что сформированное Временное правительство уже начинало тот процесс самоуничтожения, который в конце концов привел его к гибели. В пункте 5 оно фактически отказывалось от использования централизованной полиции, тем самым создавая благоприятную почву для расползающейся анархии. В пункте 7 оно обещало восставшему петроградскому гарнизону то, что стало наибольшим препятствием на пути к восстановлению порядка и дисциплины и наряду с Приказом № 1 должно рассматриваться как важнейший фактор разложения русской армии.
Сорок лет спустя Милюков объяснил, почему он уступил требованиям советских представителей по этому пункту: он не мог отклонить его, потому что речь шла о тех частях, которые "только что обеспечили нам победу. Неизвестно было в тот момент, не придется ли им сражаться с так называемыми лояльными отрядами, отправленными против столицы". Это - многозначащее признание о солидарности Милюкова и Комитета Думы с войсками петроградского гарнизона. Их солидарность была основана на общем страхе возмездия в случае провала революции.
Угроза дисциплине и боеспособности армии становилась еще сильнее от повторного утверждения (пункты 2 и 8) полных гражданских прав солдат, хотя это утверждение и сопровождалось раздражающим напоминанием о необходимости поддерживать дисциплину и ограничивать гражданские свободы, согласуясь с "военно-техническими соображениями". Наконец, заключительное заявление, слабо и как бы извиняющимся тоном провозглашавшее bona fide Временного правительства, неизбежно производило как раз обратное впечатление: qui s'excuse, s'accuse. ( Кто ищет извинения, тот себя обвиняет.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Февральская революция»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Февральская революция» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Февральская революция» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.