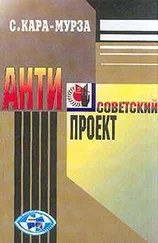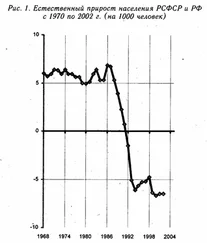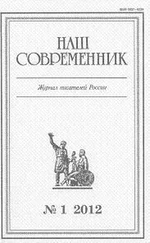Естественно, что люди, все чаще выслушивая такие необычные утверждения, которых никто не оспаривает, пытаются освежить свои знания и обращаются к трудам классиков. Сейчас, однако, апелляция к теории вызывает раздражение в тех кругах, которые облечены правом делать выговор читателям. В «Советской России» (13.9.1988), например, письмо рабочего, попросившего разъяснить его недоумение, возникшее при сопоставлении положений марксизма с пропагандой арендного подряда, вызвало такую гневную тираду: «Похвально, очень похвально, что беспартийный электромонтер вгрызается в гранит науки, но весьма огорчает возникающее у него при этом состояние восторженности… Пьянящая восторженность «начинающих марксистов» — штука вовсе не безобидная. Она, если вовремя не остудить голову трезвой практикой, поведет к слепому догматизму, и тогда, действительно, не узришь в забурьяненных огородах ленью душ развращенных и будешь проклинать старание рук трудовых как язву мелкобуржуазности». Сказано витиевато, но определенно — к Марксу, как к богу, обращаться можно лишь через священников-профессоров, да и «трезвая практика» не всякому беспартийному электромонтеру доступна.
Хотя пьянящей восторженности при перечитывании Маркса и Ленина ни у кого давно нет и в помине, послушаемся совета, поскольку все мы, действительно — «начинающие марксисты», и не будем ссылаться на цитаты классиков. Будем следовать фактам и здравому смыслу.
Для очень многих рассуждений, с которыми сейчас обращаются к общественному сознанию, характерно смешение экономических и моральных категорий. Иногда это — обычный демагогический прием, очень полезный в нечестном споре, но чаще — следствие нашего общего простодушия. В любом случае это сильно мешает выяснению позиций и действует против интересов общества.
Особенно много недомолвок и передержек содержится в рассуждениях о кооперативах. Думаю, что именно эти недомолвки, которые ощущаются (хотя и не вполне осознаются), становятся источником нарастающего у населения раздражения. Дело не столько в высоких ценах и заработках кооператоров сегодня, сколько в устрашающих утверждениях, что эти-то кооперативы и должны составить основу того социалистического общества, которое мы хотим построить.
Чтобы вскрыть сущность происходящих и назревающих явлений, мы должны отказаться от целого ряда табу, которыми было опутано наше мышление в недалеком прошлом. Одним из таких табу было запрещение использовать слово «эксплуатация» в приложении к нашему обществу. И сейчас, если мы хотим ввести в отношения между людьми явно назревшие и необходимые изменения, мы никогда не признаем, что в них будет присутствовать элемент эксплуатации. Она рассматривается как абсолютное зло.
Посмотрим, однако, всегда ли эксплуатация — зло, и действительно ли мы искоренили ее из нашей жизни. Что мы понимаем под эксплуатацией? Присвоение одним человеком труда другого человека — или путем принуждения, или путем неэквивалентного обмена между одинаково свободными партнерами. Очевидно, что если нет принуждения, то неэквивалентный обмен совершается к выгоде эксплуатируемого , поскольку в данных реальных условиях спасает его от какого-то большего зла. Когда отчаявшегося безработного нанимает хозяин, дерущий с него 300% прибавочной стоимости, то бывший безработный рад такому обмену, в данных реальных условиях он для него выгоден . Когда голодный профессор во время гражданской войны отдает рояль за мешочек проса, он считает эту сделку выгодной — но спекулянт, забравший рояль и спасший жизнь профессору, не перестает быть эксплуататором из-за того, что сделка была абсолютно добровольной. Однако абсурдно даже думать, что эта сделка имеет хоть какое-то отношение к «оплате по труду». Цена на рынке определяется спросом и предложением, величиной того зла, которое мы устраняем при обмене.
Когда мы отдаем на рынке рубль за килограмм картошки, никто нас к этому не принуждает: не хочешь — не бери, ходи голодный. Но из этой добровольности вовсе не следует, как хотят представить некоторые публицисты и экономисты, что здесь совершается акт эквивалентного обмена, акт «оплаты по труду», что продавец картофеля «получил то, что заработал». Мы готовы заплатить рубль потому, что картофель, произведенный в совхозах и колхозах, подгнил на овощных базах. А мы хотим чистенького и идем на неэквивалентный обмен. Мы благодарны парню, который привез картошку на рынок, хотя он и эксплуатирует наш труд. Но давайте признаем эту реальность, иначе мы окончательно запутаемся в понятиях.
Читать дальше