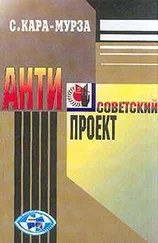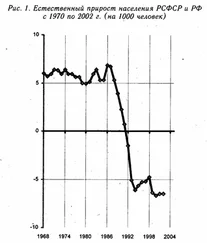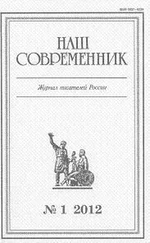И.Клямкин впервые в нашей публицистике создает образ социального субъекта, взрастившего сталинизм . Он не называет его рабочим классом, подчеркивая, что речь идет о деклассированных элементах: «Это были люди, выброшенные из одной культуры, не принятые ни в какую другую и не создавшие никакой новой». 7Да и основу для объединения людей в эту многомиллионную массу И.Клямкин видит не в политэкономических условиях, а в социальной психологии. В эту массу собрались лодыри, неудачники, завистники. Важна мысль, что эти люди изначально присутствовали в городе и деревне, но лишь НЭП, как чудесный реактив, их выявил — до НЭПа «они еще не определились, не осознали до конца, кто они и чего хотят».
Как же произошла консолидация этого «шлака»? Вот как: «НЭП восстановил различия. Это не могло нравиться ни городским рабочим, с неудовольствием посматривавшим на недоступные им частные рестораны, ни деревенской бедноте, которая землю получила, но к экономическим методам хозяйствования приспособиться не могла и попадала в зависимость от своих энергичных и удачливых соседей».
И.Клямкин развенчивает не только наш «деклассированный рабочий класс», но и пролетариат вообще. Он указывает на фатальную ошибку социалистического учения, которое предполагало, что «нужно опереться на людей, у которых нет ни собственности, ни денег, но зато есть организованность, дисциплина, сплоченность, достаточные для того, чтобы вывести человечество из тупика, — нужно опереться на наемных рабочих» (словечко «наемных» здесь вставлено так, для придания нравственной окраски; другие публицисты пошли дальше, по радио можно слышать такие выражения: «рабочие на наших предприятиях стали наймитами»). Присущая социалистическому учению опора на рабочий класс кажется И.Клямкину не только безнравственной, но и недальновидной, ибо это, по его мнению, «короткоживущий» продукт цивилизации — капитализм «на очередном витке технологической революции оттеснил индустриальное производство и индустриальных рабочих на обочину экономики и готов с ними расстаться навсегда».
Что здесь имеется в виду? Видимо, наступление «третьей волны» цивилизации, втягивание развитых стран капитализма в «постиндустриальное» общество. При этом происходит количественное сокращение рабочего класса (не слишком большое, если учесть создание промышленных анклавов транснациональных корпораций в «третьем мире»). Но кто и когда измерял роль той или иной социальной группы в экономике (или вообще элемента в любой системе) количественными параметрами? Сказать, что сейчас индустриальное производство оттеснено на обочину экономики капитализма, а скоро его совсем не будет — это значит ни во что не ставить реальность ради идеологической схемы.
Да и логика страдает, когда завязываешь в один клубок явления и тенденции разных эпох. Возникновение социалистического учения, исчезновение рабочего класса, призыв к развитию рынка — и все это вместе. Да вся суть концепции «третьей волны» как раз в том, что с сокращением удельного веса индустриального типа производства сокращается и сфера рыночных отношений. Если же статья посвящена пропаганде рынка, то к чему поминать о «третьей волне»? Индустрия при господстве рынка — главный способ производства.
Аналогичный перескок через эпохи совершает И.Клямкин, выступая против присущего рабочему классу (и нашим рабочим 30-х годов) идеалу коллективизма. В противовес этому он утверждает, что «современный идеал — это идеал индивидуального саморазвития». Здесь, наоборот, уходящая в прошлое реальность выдается за современный идеал. Ведь приближение кризиса буржуазного индивидуализма начали ощущать давно. Не он ли был для Достоевского самым опасным порождением «беса национального богатства»? В нем видел Тейяр де Шарден даже одну из важнейших опасностей для эволюции. Именно крайний индивидуализм приводит к мироощущению с таким пониманием свободы, которое допускает ядерный терроризм или идею отравить многомиллионный город, впрыснув в водопровод мощный токсин.
Кризис индивидуализма проявляется и на «бытовом» уровне, много лет ведутся на Западе поиски новых форм коллективизма. Сначала хиппи, теперь многочисленные коммуны, религиозные секты, группы взаимопомощи, кооперативные предприятия и мелкие фирмы «полусемейного» типа — все это возникло как выход за рамки «идеала индивидуального саморазвития», как движение к «саморазвитию в слиянии». В этом же направлении движется и «постиндустриальное» общество с его интенсивными коммуникациями (причем не массовыми, а коллективными).
Читать дальше