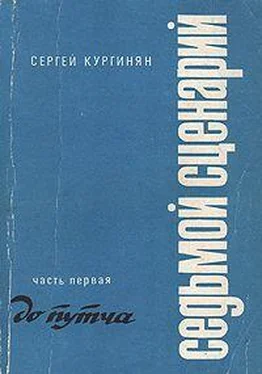Ну разве не ясно, что это с положительной обратной связью, как говорят математики, если попросту, – порочный и бесплодный замкнутый круг. Но и это еще не все. На уступки придется пойти не только в области политики, но и в области экономики. И ключевое здесь – приватизация. Ее по всем законам построения рыночной экономики придется осуществлять лишь после того, как наступит стабилизация и будет налажена минимальная рыночная инфраструктура. Разве этого не понимает Абалкин? Или Джеффри Сакс? Или Станислав Шаталин? Или Василий Леонтьев? Да все понимают и знают, что значит приватизация без рыночной инфраструктуры и в условиях системной нестабильности, растущей от месяца к месяцу. Почему же на это идут? Да потому, что без приватизации не будет иностранных кредитов. А без них не будет стабилизации. А без нее – новый порочный круг.
Таким образом, говоря об изобилии программ и изобилии заграничных поездок политических лидеров, мы вправе установить некую взаимосвязь, или значимую, между двумя этими блоками нашего политического пространства. А значит, относиться к программам соответствующим образом, читая их глазами западного клиента, которому как раз и адресованы наши программные прелести, что, кстати, никто уже и не стыдится признать.
Прогресс – налицо. И тем не менее однозначной ответной реакции Запада не вызовет даже эта устойчивость. По крайней мере, там, где речь идет об устойчивости "отцов".
Мы обратимся к ряду западных экспертов, попросив их оценить возможные перспективы получения СССР такого рода кредитов Запада, которые действительно способны помочь оздоровлению экономики СССР.
Заручившись предварительно нашим согласием не сообщать их имена советскому обществу, они согласились назвать основные аргументы, не позволяющие, с их точки зрения, рассчитывать на получение западных кредитов в том виде, в каком они могли бы быть эффективны для экономики СССР. Мы выделяем эти оценки в некий сводный блок проводимого нами анализа и в этом виде предъявляем их обществу.
Итак, мнение экспертов. Они считают, что в существующей политической ситуации "кредиты СССР может предоставить только безумец". Аргументы таковы.
Во-первых, нет и не может быть уверенности, что при существующей ситуации СССР эти кредиты вернет. Как нет уверенности и в том, что СССР сохранится как субъект, несущий ответственность за них. Эксперты, сопоставляя нынешнюю ситуацию с ситуацией 1917 г., считают: аналогия по многим показателям является достаточно серьезной.
Во-вторых, для нормального кредитования, для серьезных, требующих возвратного периода инвестиций у Запада денег сегодня нет. В этом вопросе эксперты предлагают довериться мнениям Д.Гэлбрейта или А.Янова. Ни тот, ни другой к сторонникам КПСС и высшим кругам государственной бюрократии СССР отнесены быть не могут. Однако они утверждают, что Запад необходимых ресурсов для так называемого "плана Маршалла" не имеет в связи с экономической и финансовой нестабильностью самого Запада. А.Янов, помнится, напрямую аргументировал этим необходимость для СССР срочной продажи островов Курильской гряды Японии, ибо лишь она, по его мнению, располагает необходимыми средствами для осуществления "плана Маршалла" в условиях СССР. Но именно Япония сегодня особенно скептически относится к идее кредитования СССР.
В-третьих, программы, которые могли бы привлечь того или иного западного инвестора, связаны, по мнению экспертов, со сдвигом в расстановке сил в лидирующей группе. Любое государство, ведущее конкуренцию, готово было бы предоставить необходимый кредит, если это позволило бы ему изменить расстановку сил, вырваться вперед, решить свои национально-государственные проблемы. Но существующие у нас программы таких надежд не дают. СССР выступает в позиции слабого партнера, предъявляя притом такую бесконечную слабость, такую готовность на все, что это начинает производить парадоксальный, обратный эффект. Отсутствие целей у лидеров страны отпугивает, поскольку означает для государства-инвестора необходимость подключения своей экономики к сверхдержаве, страдающей параличом. Перспектива волочить ее на буксире в течение многих и многих лет в условиях стремительной технологической гонки стран-лидеров мало кого привлекает.
В-четвертых, "политического товара" – я имею в виду наш внутриполитический кризис – тоже не предъявлено. Почему? Да потому что западные лидеры уверены: они контролируют ситуацию в большей степени, нежели советские политики.
Читать дальше