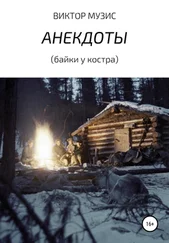- Слыхал, говоришь?
- Да, - сказал я, совсем уже ничего не понимая.
- Ну, пойдем, посмотрим.
Мы пошли вместе. Под яром было все так же темно и пусто. Опершись на багор, Федор глядел напряженно. Месяц быстро падал за высокий лес, оставляя на воде узкую золотую дорожку. Вот он опрокинулся в реку, на мелкие сверкающие осколки разбил ее темное зеркало и словно прилег на самом краю неба.
В колхозной конюшне заржал жеребец. На песчаной Бухарской косе звонко пропела труба.
- Чапура, - сказал Василий Павлович. - Птица - хоть в горнисты.
И все снова стихло. Только сторож мырева перемета позванивал серебряными пуговицами, но мне показалось, что и от этого звона досадливо отмахнулся Мырь.
В русле пересохшей старицы, влево от нас, завыли волки. Первым подал голос прибылой щенок, по-шакальи пролаяв свою раннюю песню. Подвизгивая и плача, откликнулись ему переярки. Густо и грозно, как раненый бык, провыл матерый, и на высокой рыдающей ноте закончила песню волчица.
Внизу под яром чуть слышно бурлила вода в омутах. Еле уловимый звук, больше похожий на дуновение ветра, пронесся над ней и стих.
- Она, - прошептал Мырь, - она, - и он показал рукой вперед на лунную дорожку.
На самой середине реки, точно оправленный в золото слоновый бивень, высился желтый мраморный треугольник - голова рыбы.
- Пришла, - сказал Василий Павлович. - Ну!
Мырь молчал.
- Зайти неводами в четыре крыла - не уйдет. Ляжет здесь в нашей ятови. Эка прорва.
Мырь молчал.
- Говори!
Тихо, словно не он опускался, а к нему прибывала вода, желтый треугольник стал уходить вниз. Без плеска и шума поднялось на волну все тело рыбы, похожее на торпеду, и так же бесшумно скрылось. Только, смыкаясь, прожурчала вода.
- Не бьет, - сказал Мырь. - Икру бережет. Матерь.
- Икры одной будет десять пудов в такой белуге, - сказал волнуясь Василий Павлович. - Бери жеребца, Федор, гони за снастью!
- Сам ты жеребец, - ответил с презрением Федор. - А еще председатель. Есть тебе, что ли, нечего? Матерь, говорю. В реку зашла икру выметать. Хозяин!
- Так ты же сам, Федор!…
- Время времени стремя держит, - сказал Мырь непонятно.
Не разговаривая больше, мы пошли в поселок. Василий Павлович довел нас по тракту до самого дома Федора и простился.
- Ты не думай, брат, что от жадности я, - сказал он робко. - Охота взяла. Охота, она сам знаешь…
- Знаешь, - сухо ответил Мырь и пошел впереди меня к воротам.
- Погодишь? - спросил он и показал на тесовую скамью у плетня. - Надо мне по одному делу.
- Погожу, - сказал я, усаживаясь поудобней, - иди.
Мырь ушел. Месяца уже не было, стояла темная и глухая ночь.
Я долго сидел один. Сказывалась усталость, хотелось спать
и задремал бы, наверно, но на той стороне дороги в сотне шагов от меня вдруг засветились две большие точки. Впечатления сегодняшней ночи ожили заново, волчий вой, слышанный на яру, еще раздавался в ушах. Сидеть так просто и ждать, пока приблизятся к тебе горящие глаза, было невмоготу, и я решил пойти к ним навстречу.
На половине пути я услышал тихий разговор, а еще через десяток шагов разглядел, что у дома напротив сидят и курят два человека.
Я поздоровался.
- Чей будешь? - спросил меня седобородый высокий казак, поднимаясь со скамьи.
- Агроном городской, - ответил ему сидевший рядом молодой чубатый парень с перевязанной щекой. - Видел вечор в правлении.
- Чего не спите? - старик опять опустился на скамейку. - Мы сидим - у Василия зубы болят. А вам что - постоя не дали?
- Нет, я вот тут, у Мыря. Только Федор, не знаю, как его по отчеству, ушел куда-то. Жду.
- А, - совсем успокоенно сказал старик. - Отца Федора Климентом звали. Правильные были казаки Солодовниковы: еще отец его брус засовный прибил на ворота снаружи - всегда, мол, двор открыт для хороших людей. И Федор в отца пошел. Рыбак! Знают его с верха до низа.
- Почему его зовут по-чудному, - спросил я. - Известный человек и вдруг - Мырь? И ноги у него кренделями.
- Потому и Мырь, что известный, - сказал старик. - А ноги ему пулеметом прошили в шести местах. Это еще когда с Чапаевым был под Бударным.
- А все-таки, почему же Мырь?
- Дождь прошел по весне, - сказал старик, - в тридцатом году. А в поселке было, как говорили старики постарей меня, десять кулаков, пятьдесят казаков и двадцать два бедняка. И самым бедным был Мырь.
- Он тогда еще в Солодовниковых ходил. Рыбаком он стал после прозвища, - сказал чубатый парень.
- Верно, песни хорошо пел, тем только и был приметен, - сказал старик. - Только раз в город съездил с обозом и привез оттуда новую песню. Пели ее и с трубой и с гармонью. Ну и запала в сердце. Весь левый край станицы пел. С февраля того года начала беднота артель строить. Я тогда с казаками был и тоже, прости господи, за непутевых их считал. Казаки-середняки, конечно, остерегались. Петь - пели, а в артель не шли. И куда идти? Там четыре коня на всех было, семян собрали в обрез. Голодовали!
Читать дальше



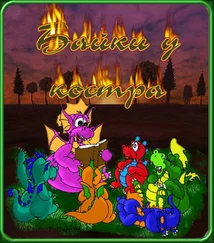
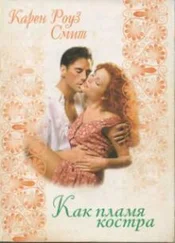

![Вячеслав Шугаев - Странники у костра [Авторский сборник]](/books/418609/vyacheslav-shugaev-stranniki-u-kostra-avtorskij-sbor-thumb.webp)