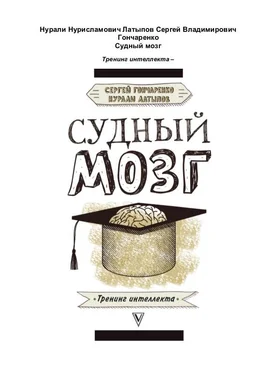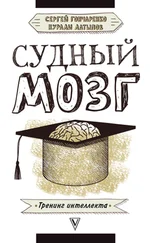В процессе научного творчества, да и мыслительной деятельности вообще исключительно важным может оказаться умение видеть и исследовать аналогии. Автор теории тепловых двигателей Сади Карно уподобил тепловые двигатели давно известным водяным. Их приводит в движение вода, падающая с высоты. Значит, так же переносит энергию «теплота», отбираемая от нагревателя и «падающая» на холодильник.
Неверная же аналогия ставит преграду на пути к открытию. В XVII веке движение крови в организме сравнивали с приливами и отливами – отсюда и специфические методы лечения, и невозможность продвижения в познании анатомии человека. Из тупика анатомию вывел В. Гарвей: он представил сердце в виде насоса (более адекватная аналогия), и результатом стало открытие непрерывного движения крови, большого и малого кругов кровообращения.
Д. И. Менделеев вывел принцип периодичности и предугадал открытие некоторых новых химических элементов, пользуясь аналогией со свойствами соседних, уже изученных. В. Кекуле во сне увидел змею, кусающую свой хвост, и это натолкнуло его на идею структуры бензола в виде кольца – разве это не показывает и то, как работает подсознание, и то, как оно ищет и демонстрирует аналогии в разной форме? А атом в виде Солнечной системы, явившийся Нильсу Бору, по его словам, также во сне?
Как видим, аналогии в науке дают арсенал не только идей, но и решений. Новые идеи в большинстве случаев – давно и хорошо забытые старые, но преобразованные, перелицованные по-новому гипотезы и мысли, которые уже могут быть восприняты, для которых подготовлена почва, и пришло время им «прорасти».
Хитрые выдумки
Эффективным способом развития творческого мышления является выдумывание артефактов. Примерно 180 лет назад Оноре де Бальзак описал шагреневую кожу, исполняющую желания, но теряющую в размерах по мере исполнения этих желаний (соответственно источалась и человеческая жизнь). Фёдор Сологуб в «Мелком бесе» вывел среди важных, но бессловесных персонажей серую недотыкомку, вьющуюся по углам, не имеющую ни определённой формы, ни содержания. Клиффорд Саймак в «Пыльной зебре» «разработал» розовые очки, глядя через которые человек испытывает переполняющее его чувство радости, напрочь забывает о повседневных проблемах и заботах. Карел Чапек представил такой эликсир бессмертия («Средство Макропулоса»), который герои книги (олицетворяющие человечество со всеми его недостатками и пороками) всё-таки отказываются принимать. Потому как никто из них не захотел бессмертия за счёт выхолащивания смысла этой смертной жизни. Братья Стругацкие затем развили эту идею в «Пяти ложках эликсира», обогатив исходник философскими и психологическими нюансами.
Трансляция идей – неизбежный и необходимый, равно как и их генерация, процесс, в том числе и среди современников. Бывает, что идея просто носится в воздухе. Вспомним хотя бы роман Сергея Снегова «Посол без верительных грамот», опубликованный в 1977 году, в котором сновидения зарегистрированы как средство общественной информации, и каждый может транслировать и опубликовывать собственные сны. Уже через несколько лет в произведении Кира Булычёва «Глубокоуважаемый микроб» описывается «инопланетная коробочка», осуществляющая перевод человеческих воспоминаний прямо из мозга в визуальную форму с последующей их продажей. А житель Великого Гусляра, города, тоже рождённого фантазией Кира Булычёва, изобретательный профессор Иван Христофорович Минц разработал вакцину от тунеядства, заставляющую человека периодически и трудолюбиво работать во благо общества. Стоит капнуть всего лишь две капли в стакан – и самый отъявленный лентяй уже моет полы. Но, увы – прав был Парацельс, всё решает чувство меры…
Знакомое решение поможет
Один из важнейших принципов, работающий практически в любой сложной задаче – «принцип сведения», позволяющий упростить сложную и запутанную задачу, свести её к некоторой другой, намного более простой. Так мозгу проще работать: если мы упрощаем условие, закапываем овраги и срываем холмы в «пространстве проблемы» – путь к решению становится хорошо виден! Кстати, если при решении сложной задачи вам вспоминается похожая задача, но с уже известным решением, значит, вы уже свели вашу задачу к более простой! Правда, есть и пределы такого упрощения. Если «переборщить» – получим совсем другую задачу.
Принцип сведения к известному в естествознании восходит еще к Аристотелю: он объяснял падение тел «понятным» желанием всех тел стремиться к центру Вселенной (по тогдашним представлениям – к центру Земли). В XIX веке Джеймс Клерк Максвелл пытался объяснять свои уравнения электромагнитного поля, сводя его к «понятным» шестерёнкам, заполняющим всё пространство «понятного» упругого эфира. Майкл Фарадей был убеждён, что силовые линии электрического или магнитного полей – «понятные» реальные упругие струны. Исааку Ньютону была совершенно понятна корпускулярная природа света. И это его убеждение в простоте и понятности такой механистической картины, затормозило развитие волновой оптики почти на два века! Вот так – действительно, перебарщивать в упрощении опасно.
Читать дальше