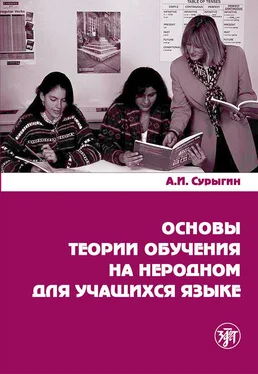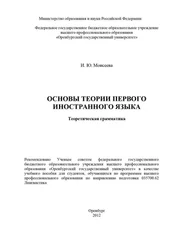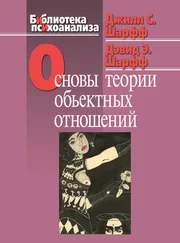Давая определение понятию „ академическая адаптация“ , мы исходим из общего определения, трактующего „ адаптацию“ как процесс приспособления человека к изменившимся условиям жизнедеятельности. Говоря об академической адаптации , под человеком следует понимать субъекта учебной деятельности – учащегося, а под условиями жизнедеятельности – педагогическую систему (см.).
Определение адаптации содержит понятия (в частности, приспособление ), требующие дополнительных уточнений и пояснений, поэтому предлагают более развернутые определения. Например, «формирование устойчивой системы отношений ко всем компонентам педагогической системы, обеспечивающей адекватное поведение субъекта деятельности для эффективного достижения целей педагогической системы» (И. В. Ширяева) или «процесс вхождения иностранных учащихся в учебную деятельность, который позволяет достичь оптимальных результатов с позиций целей обучения и возможностей личности при устойчивости достаточно высокого уровня мотивации и самоорганизации» (Камардина, Корчагина, 1998, с. 71) или «целенаправленный процесс взаимодействия субъектов обучения и новой дидактической среды, регулируемый при помощи специальных дидактических средств и методов частных дидактик, обеспечивающий согласование ожиданий субъектов, их возможностей и дидактической среды» [70](Чернявская, 1991, с. 7).
Понятия не существуют изолированно, сами по себе, а только в системе с другими понятиями. Поэтому во всех этих определениях содержание понятия академическая адаптация раскрывают через связи с другими понятиями. Задачи научных исследований безусловно требуют раскрытия многообразных связей понятия, но все многообразие связей невозможно отразить в определении. В приведенных выше определениях ясное понимание адаптации как процесса приспособления затеняется целым рядом не вполне ясных терминов. Например, дополнительных разъяснений (определений) требуют термины устойчивая система отношений к компонентам педагогической системы, адекватное поведение, эффективное достижение целей, оптимальные результаты с позиций целей обучения и возможностей личности, устойчивость достаточно высокого уровня мотивации и самоорганизации . Все они, по-видимому, могут быть доопределены в рамках конкретных исследований, но их трактовка не является общепринятой, и потому вряд ли следует использовать эти термины в определении такого достаточно широко распространенного понятия, как „ академическая адаптация“ .
В то же время, ближайшим родовым понятием для „ академической адаптации“ является „ адаптация“ , а видовое отличие состоит в особенностях условий жизнедеятельности, в особенностях окружающей среды, которую в данном случае представляет собой педагогическая система . Такой подход приводит к простому и сравнительно ясному определению, приведенному в начале статьи.
Адаптированность. Результат процесса адаптации (см.), наиболее устойчивое состояние организма в новых условиях (Щуревич, Зинковский, Пономарев, 1994, с. 8).
Аудирование. То же, что слушание (см.). Контекстуальный анализ показывает, что многие авторы трактуют термин аудирование как полный синоним термина слушание или вообще не используют его (например, Зимняя, 1989; Капитонова, Щукин, 1987; Глухов, Щукин, 1993). В то же время, многие говорят именно об аудировании , обосновывая использование такого термина необходимостью отделить активное слушание от пассивного. Однако трактовка слушания как вида речевой деятельностиуже указывает на активность, ибо понятие деятельности подразумевает активность ее субъекта: неактивной деятельности не бывает. Но в этом случае активное слушание (то есть активный вид деятельности… – активный вид активности…) является, по сути дела, тавтологией и в его обозначении новым термином ( аудирование ) нет методологических оснований. Кроме того, представляется, что в ряду имен видов речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, слушание (аудирование)) термин слушание выглядит предпочтительнее, чем аудирование .
В этой же плоскости лежит и трактовка „ слушания“ и „ аудирования“ Е. И. Пассовым. Выстроив оппозиции „ говорение“ – „ проговаривание“ , „ чтение“ – „ прочитывание“ , „ письмо“ – „ писание“ и „ аудирование“ – „ слушание“ , Е. И. Пассов пишет, например, про последнюю пару (и аналогично про остальные), что « слушание есть восприятие речевого материала на слух без цели извлечения информации, аудирование – с наличием цели [71]» (Пассов, 1977, с. 49; 1989, с. 63). Из этого следует, что в основе всех этих оппозиций лежит единственный признак – «деятельность – не деятельность» (деятельности без цели не бывает). Тогда левые части приведенных оппозиций можно трактовать как виды речевой деятельности. Понятия же, стоящие справа, характеризуются такими свойствами, как пассивность субъекта, отсутствие цели (по крайней мере, в области речевой деятельности) и, следовательно, к речевой деятельности отношения не имеют. Правда, в рамках организованной учебно-познавательной деятельности и «проговаривание», и «прочитывание», и «писание», и «слушание» характеризуются и активностью субъекта, и наличием цели. Однако эти цели (например, формирование произносительных навыков при «проговаривании») выходят за рамки речевой деятельности (формулирование и понимание мыслей), лежат в плоскости методики преподавания и определяются ее задачами. Возможно, „ проговаривание“ и другие понятия этого ряда допустимо трактовать как некоторые методические приемы для формирования умений в видах речевой деятельности. Таким образом, мы видим, что две группы понятий, образующих по Е. И. Пассову оппозиции, существенно различаются. Не углубляясь в анализ, отметим, что для более четкого разграничения двух групп целесообразно стремиться к единообразию в терминах. Например, термины говорение, чтение, письмо, слушание (а не аудирование ) использовать для обозначения видов речевой деятельности; а термины проговаривание, прочитывание, прописывание (а не писание ), прослушивание (а не слушание ) – методических приемов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу