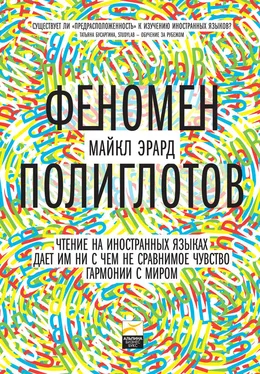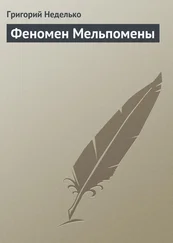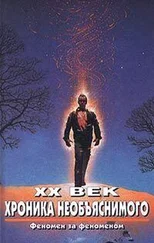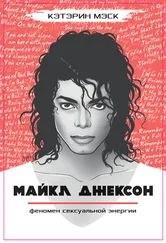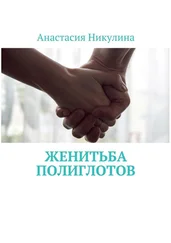После долгого путешествия по Соединенным Штатам семья Кребс оказалась на корабле, направлявшемся в Европу. При этом на берегу осталась их обширная библиотека, которая в конечном счете была куплена Библиотекой Конгресса США. Вернувшись в Германию, Кребс, «влекомый своими лингвистическими амбициями», как выразился один немецкий биограф, с новой силой взялся за изучение иностранных языков. Министерство иностранных дел платило 90 немецких марок за знание каждого иностранного языка. «Ты так станешь миллионером!» – говорили ему друзья и домочадцы. Однако чиновники сообщили Кребсу, что ему будет разрешено сдать экзамены только на двух языках. В итоге за свое умение читать ассирийские, вавилонские и шумерские клинописи ему не удалось получить ни пфеннига.
Однажды в марте 1930 года, когда Кребс работал над очередным переводом (что именно он в тот момент переводил, неизвестно), его хватил удар. Вскоре после этого он умер. Известие о кончине знаменитого полиглота распространилось быстро, и в тот же день в его доме раздался телефонный звонок. Жену Кребса спросили, не собирается ли семья передать мозг усопшего для проведения научных исследований. Звонившим был Оскар Вогт (1870–1959), скандально известный специалист в области анатомии мозга и директор германского Института исследований мозга. Мозг Кребса мог бы стать прекрасным дополнением к собранной Вогтом коллекции мозгов знаменитых людей, в которой до того момента не было представлено ни одного известного полиглота.
К тому времени Вогт накопил довольно большой опыт изучения мозга. В 1924 году он был приглашен в Москву для изучения мозга умершего Владимира Ленина. В те годы политическое руководство молодой Советской Республики, и в частности Иосиф Сталин, усматривало необходимость создания и поддержания образа Ленина как революционного супергения. «Родилась блестящая идея получить, если это возможно, научное подтверждение гениальности Ленина из некоторых заслуживающих доверия зарубежных источников», – писал Игорь Клатцо, биограф Вогта и его жены Сесиль. В 1927 году пропитанный формалином мозг Ленина оказался в распоряжении Вогта и в целях изучения был разрезан на тридцать одну тысячу частей. В процессе исследования немецкий ученый столкнулся с огромной проблемой: как, не поступившись принципами, не обидеть своих советских заказчиков? Как объяснить некоторые особенности мозга Ленина без упоминания того факта, что они могли быть вызваны сифилисом (в итоге был сделан вывод, что Ленин страдал наследственным атеросклерозом)? И что делать, если мозг Ленина не соответствует параметрам мозга других знаменитых людей?
Вогт решил эту проблему, описав обнаруженный в коре головного мозга Ленина большой массив пирамидальных нейронов и пояснив, что именно они отвечают за богатство воображения и рациональное мышление. К огромному удовольствию советских властей, результаты исследований Вогта были опубликованы в 1929 году, после чего он приступил к реализации других проектов.
Вряд ли он догадывался, что в следующем году объектом его исследований станет мозг гиперполиглота. Он встретился с сестрой жены Кребса и его падчерицей в церкви, где должны были состояться похороны. Согласно закону, извлечение мозга должно было проводиться в присутствии членов семьи. Во время проведения этой процедуры Тони и Луиза-Шарлотта предпочли отойти подальше, чтобы не видеть и не слышать, как Вогт орудует над черепом Кребса своими ужасными инструментами. Должно быть, царившая атмосфера напоминала рассказы о Франкенштейне: мерцание газового освещения во мраке темной церкви и Вогт, сначала орудующий молотком и пилой, а затем уносящий мозг Кребса в стеклянной банке.
Тот самый мозг, который, как я надеялся, мог многое прояснить.
На самом деле мозг, который действительно мог бы многое добавить к нашему пониманию природы языковых способностей, принадлежит вовсе не Меццофанти или Кребсу, а тем, кто вообще утратил языковые способности. Одним из наиболее известных представителей таких людей был страдавший эпилепсией парижский рабочий по имени Леборне, который в 1861 году был доставлен в больницу с гангреной ног. Оказалось, что в течение многих лет он практически не разговаривал. Все, что он мог сказать, было «тан» (которое он произносил с различными интонациями). Поэтому сотрудники больницы стали называть его Тан, а затем прозвище перекочевало и в медицинскую литературу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу