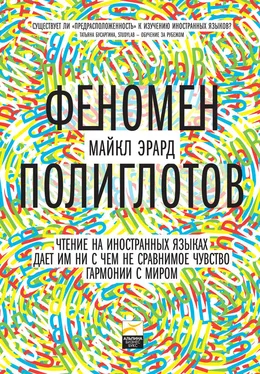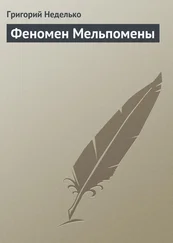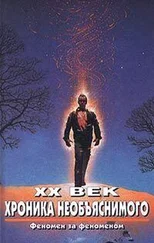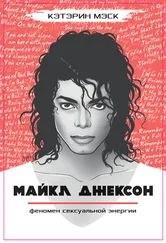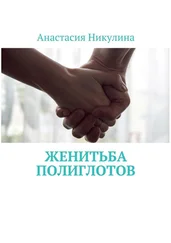Таких людей можно назвать «нейроатипичными». Отчасти их нейрологическая атипичность обусловлена аутизмом, особенно если речь идет о высокой степени функционального аутизма. Британский психолог и эксперт в области аутизма Саймон Бэрон-Коэн утверждает, что аутизм – экстремальное выражение когнитивного стиля, имеющего сильную предрасположенность к «систематизации». Систематизаторы занимаются наблюдением за входящими и исходящими потоками данных, находят между ними взаимосвязи и отмечают происходящие изменения. Бэрон-Коэн определяет способность к систематизации как атрибут «мужского мозга», который имеют в основном биологические мужчины (он признает, что биологические женщины также могут иметь мужской тип мозга). На проявлениях «крайности мужского мозга» Бэрон-Коэн построил свою теорию аутизма.
Возможно, предрасположенность к систематизации позволяет объяснить, почему люди, занимающиеся наукой, получают более высокие баллы при прохождении тестов на наличие признаков аутизма. Этим же можно объяснить то, что среди ученых математики, физики, программисты и инженеры получают по результатам тех же тестов более высокие баллы, чем врачи, ветеринары и биологи. Бэрон-Коэн также обнаружил, что аутизм чаще встречается у потомков тех, кто занимается физикой, математикой и инженерией, нежели тех, кто изучает литературу.
Бэрон-Коэн проделал большую работу по изучению навязчивых интересов у детей, страдающих аутизмом, нарушениями аутического характера и синдромом Аспергера. Он пришел к выводу, что систематизаторы проявляют больший интерес к механическим системам, чем к социальным. Или, как он выразился, их в большей степени интересует «элементарная физика» – общие сведения о том, как взаимодействуют объекты и системы, – нежели «элементарная психология». В ходе обследования детей с синдромом Туретта [73], аутизмом или синдромом Аспергера выяснилось, что дети, страдающие аутизмом, чаще одержимы страстью к механизмам, автомобилям, физическим моделям, компьютерам, астрономии, строительству, вращающимся объектам и световым эффектам, чем к религии, искусствам, продуктам питания или спорту. Кроме того, элементарная физика привлекает их больше, чем детей с синдромом Туретта.
Может ли в качестве навязчивого интереса выступать страсть к изучению языков? Бэрон-Коэн спросил родителей обследуемых, занимаются ли их дети «повторением услышанного, коллекционированием слов и фраз, а также изучением языков». Оказалось, что подобные навязчивые интересы проявляются лишь у четверти детей, примерно такая же часть из них одержимы спортивными состязаниями и играми. При этом страсть к ведению учета своих действий и «таксонометрии» проявлялась в три раза чаще; и что удивительно, лишь 35 процентов склонных к систематизации детей демонстрировали повышенный интерес к математике и цифрам.
Конечно, все это лишь очень краткий экскурс в тему аутизма. Но и он позволяет узнать немного больше о свойствах мозга людей, имеющих экстраординарные способности к изучению языков.
Один из моих визитов к Александру Аргуэльесу в Беркли совпал по времени с проводимой в Сан-Франциско конференцией, посвященной картированию головного мозга. Проезжая в поезде мимо бухты Беркли, я думал, что эта конференция поможет мне найти нить, которая свяжет воедино то, что я знаю о гиперполиглотах, и то, что другие знают о головном мозге. Я договорился встретиться на конференции с австрийским нейробиологом Сюзанной Рейтерер, исследующей нейрологическую основу того, что она называет «фонетическим талантом к языкам». Она специализируется на изучении способностей людей, которые умеют «подделывать голоса», – пародистов, актеров. Сюзанна оказалась энергичной брюнеткой в очках с темной оправой; она описала мне собственный фонетический талант и рассказала, в какой степени ее исследование является попыткой его объяснить.
Будучи студенткой одного немецкого университета, она в группе исследователей сравнивала хороших и плохих пародистов с помощью психологических тестов и нейровизуализации. Некоторые немцы, вовсе не знающие хинди, могли заставить носителей этого языка поверить, будто говорят на нем. Каждый из этих незаурядных имитаторов обладал развитыми речевыми способностями и хорошей кратковременной памятью, а также умел улавливать тонкие различия между музыкальными тонами и ритмами, особенно в пении.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу