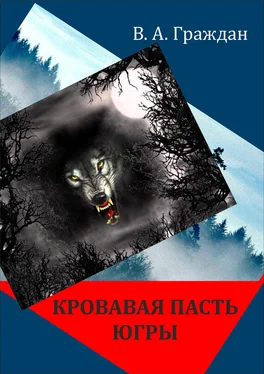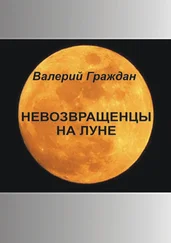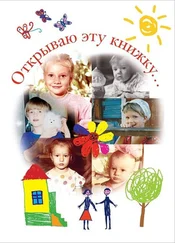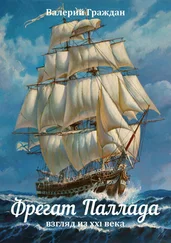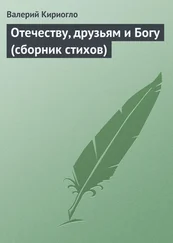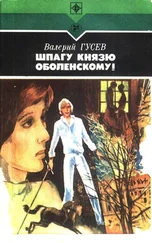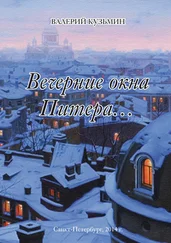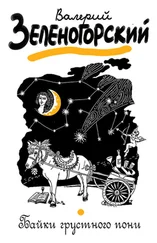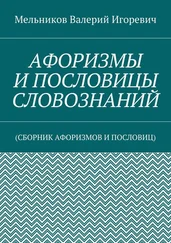Охота, рыбалка, ягоды, огород и геологоразведка были основными средствами к существованию. Втихаря или «попутно» мыли золотишко. Любой, даже пацан, идя в тайгу имел с собой лоток для мытья золота. Но дрова и их заготовка всегда безоговорочно стояли едва не на первом после мясопродуктов месте.
Вот ими-то, дровами, я и продолжал заниматься всю зиму «в свободное от охоты и учёбы время»: колол и складывал вдоль стены. Но это был труд «западло», сиречь безрадостный, хотя, безусловно, необходимый. Но по соседству с нашей избой жили буряты. Подружились мы с моим одноклассником Галсаном, что по-нашему Гена, а в переводе «счастье». Парень учился на удивление хорошо, почти на отлично. И, если бы не широкоскулые лица, то по говору бурят не отличить от русских. Ни малейшего акцента и будто нарочито правильное произношение, коего не у многих русских встретишь. Так что дрова часто кололи вместе. «В нашей юрте своих дровоколов хватает!» – шутил Галсан. Зимой, когда морозы переваливали за пятьдесят, а значит не идти в школу, я любил посидеть среди родни приятеля у бурятской печки-камина.
Их дом считался богатым: у добротного строения из брёвен на русский манер с постройками и крыльцом была «сэрге» – коновязь. Галсан говорил: «Безлошадный бурят – бедный бурят!» Внутри жилища почти ничего не осталось от настоящих кочевых юрт. Даже пол был настлан из толстенных лиственничных досок. А посредине стояла огромная печь на русско-бурятский манер. Будто печка с камином воедино. Хотя нечто незримое, духовное от бурятского уклада осталось. В Могоче тогда жило до десятка бурятских семейств. Нашу окраину так и именовали: улус.
Я до сих пор буквально преклоняюсь перед культурой бывших кочевников. Они поимённо знают биографии своих предков до двадцать пятого колена!! Попробуйте вспомнить своих прямых родственников хотя бы до третьего колена! А сколько сказаний, былин, сказок хранится в фольклоре любой юрты.…А сама речь на русском! Причём речь богатая, даже красочная.
В бурятских семьях на стене в почётном мужском углу наряду с оружием висят струнные инструменты чанза, либо иочин (вроде наших гусель). Галсан прибегал ко мне в шубейке нараспашку (это в пятидесятиградусный мороз!) и звал в гости. Это означало, что придут все желающие из улуса и будут слушать сказки. Исполнитель играл на иочине и пел стихи на манер частушек. Конечно же, на бурятском языке. Но певец был необыкновенно выразителен, а в дополнении мимики и музыки – ещё более. Иногда друг давал перевод. А недавно он познакомил меня… со своей женой. По родовым обычаям детей бурятов обручали едва не с колыбели. И «жених» начинал выплачивать калым за невесту. Это был весьма солидный натуральный «налог» в виде скота, лошадей, денег. Я же из гостей непременно нёс изрядный кусок мяса-положенный по обычаю бурят подарок. Отчим мою дружбу поощрял соразмерно принесённому куску мяса, либо намытому сообща золотому песку.
Но даже самой трескучей зимой многие в посёлке «бегали» в тайгу за припасами. А уж буряты-цонголы из рода абагат испокон очень удачливые охотники. Часто казалось, что они не охотятся в обычном понятии, а берут положенную им от природы дань, но не более. «Тайга жить долго хочет!» – Пояснял бабай (отец) Галсана. Едва морозы позволяли и лыжня сливалась воедино, как по полкласса ребят-мальчишек уходили либо со старшими на охоту, а то и самостоятельно «куда подальше» дня на два-три с ночёвкой. Мы чаще охотились втроём: Гена, китаец Толя и я.
Зимняя ночёвка в горной тайге сродни разве что лирике под гавайским небом в сезон спаривания морских черепах. Тепло от костра, бездонное звёздное небо и бесконечные рассказы о своих и чужих приключениях. Трещал костёр и в тишине тайги проникновенно звучали бурятские сказки и китайские легенды. И не всегда уразумеешь: на каком языке говорит рассказчик, хотя смысл повествования входил прямо в душу. А Луна надменно взирала на морозный мир, тишина окрест сопок и росчерки метеоров в знак напоминания о вечности.
А с китайцем Толей Се Чан Цином (в классном журнале писали Сеченцин) мы сдружились в первый же день учёбы. Он предложил мне место за партой подле себя. Толя с двумя старшими братьями жили в посёлке давно: их род третий из Се Чан Цинов, живущих в России. Их родители остались на родине – в Китае. Случалось, что они «бегали» в Китай в гости. В селение Гуолянь, не то просто Гулянь, что по-нашему вроде «просо». Гаоляновые веники оттуда были на славу для избы. Случалось, что на охоту братья брали Толю и меня с собой. Позже и летом в тайгу мы с Толяном шастали сами. Братья были классными огородниками, и у них расчудесно росло всё, что совершенно не могли возделывать другие народности в Могоче, ссылаясь на вечную мерзлоту. Мои же «родственники» даже не пытались стать огородниками и земля зарастала дикими травами. Были здесь даже великолепные горные цветы саранки: они звёздами полыхали почти повсеместно у дома. В самом заду эдакого «огорода» по весне буйно рос багульник.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу