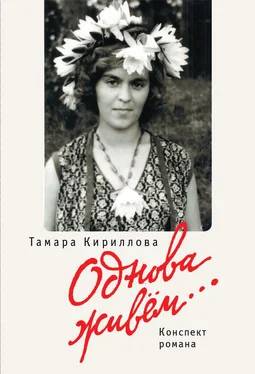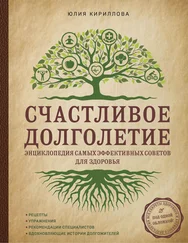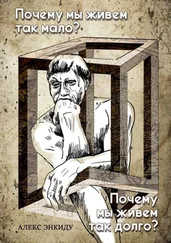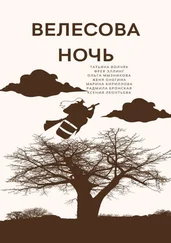А дальше говорит тетя Маня, говорит быстро, я не успеваю записывать особенности ее речи, улавливаю только смысл. Тетя Маня постарше мамы, и к моменту раскулачивания была замужем в другом селе:
«А нас-то за что? Как дочь раскулаченного. Свои же пришли грабить соседи. Кундук-Кузнецов, он на всю деревню своей завистью да жадностью славился, да Кундучиха, да другие такие же бесстыжие из колхозного правления. Взяли все, до последнего горшка, и между собой поделили, потом носили в открытую, бессовестные. И хоть бы какую бумажку показали, нет, какая там бумажка, пришли и ограбили среди белого дня. А тут еще комсомол пошел, а комсомолу приказывают: «Отбирай!» Он не имеет права не отбирать, ему приказывают. Некоторые председатели жалели, знали, кого назначат раскулачивать, либо сами тайком предупредят, либо кого пошлют тайком. Хоть что-то да спасали люди, а то ведь совсем голых оставляли, как нас вот…».
Всю семью раскидало по соседним селам: деда приютили одни, дядю Сашу с бабушкой – другие, дядю Гришу – третьи, маму – четвертые. Дедушка так и не оправился от потрясения. Он начал быстро стареть. Всю жизнь он не брал в рот спиртного, а тут стал иногда попивать. Выпьет, плачет и повторяет:
– За что? За что? Красоту на земле губят, красота исчезает…
Он приходил посмотреть на меня, когда я была маленькая, но
я запомнила его, когда мне было лет пять, и меня возили к нему в Гудиловку. Он был седой и благообразный, и совсем не похож на того молодого деда, который был у нас на фотографии. Он все обнимал меня, плакал и повторял:
– Внученька, внучушка…
Вот так и получилось, что дедушкой для меня стал отец мамы Натани, дед Федос. Он тоже был седой и степенный, сейчас бы мы сказали – патриарх. Как и дед Харлампий, он за всю жизнь чёртом не выругался. Был немногословный, ненавязчиво-ласковый, любил смотреть на закат и думать о смысле жизни.
А папа Ваня гонялся за смыслом жизни по всей стране, и где он только ни побывал: из Тамбова ехал плотничать в Сочи, из Сочи – в Мурманск, из Мурманска – в Казахстан, из Казахстана – на Дальний Восток.
Его дом – наш дом – был небольшой, но заметный. Он стоял под железной крышей, что тогда было редкостью, и был весь изукрашен деревянной резьбой – работа папы Вани. Особенно нарядным было крылечко, на котором я провела много счастливых часов. Крылечко выходило на улицу, в палисадник, а в нём росли вишни, сливы, смородина, сирень. Около самого крыльца и вдоль тропинки кустились веники, правильного названия которым никто не знал – веники и веники. В них хорошо было прятаться.
Помню всё это, пронизанное солнцем в дневное время и залитой жутковатым светом луны ночью. Помню, я подолгу смотрела, как играет солнце в вишнёвых листьях, как снуют по стволу муравьи, и как непонятной жизнью живёт вишнёвая смола. Каждый раз, когда меня привозили в деревню, я бежала первым делом к вишням. Когда они поспевали, я любила срывать веточки с вишнями и рассматривать их против солнца. Какая удивительная жизнь открывалась моим глазам! Иногда солнце просвечивало до самого зёрнышка. Не было ни одной вишни, похожей одна на другую. Я прикладывала вишни к серым перилам крыльца, к свежевыструганным доскам, ко мху, к зелёным веникам, к полынным веникам и удивлялась тому, как меняется красный цвет. У меня были свои обозначения для каждого оттенка цвета. Я эти вишни никогда не ела, потому что они были живые, а ела только те, которые не рассматривала.
Утро начиналось с того, что я бежала по ту сторону дома, где по утрам расцветали кусочки неба в тёмнозелёной траве. Эти цветы, кажется, цикорий, боялись солнца и голубели только по утрам. А потом бежала по другую сторону дома, там росла мурава, голубовато-серая от росы. И я бегала, счастливая, по росе, до тех пор, пока пятки не становились ослепительно-белыми, даже голубыми. Набегавшись, садилась на ступени крыльца и слушала, как просыпается деревня: мычат коровы, звякают подойники, лают собаки, квохчут куры, хозяйки скликают кур. Солнце стояло прямо против крыльца, огромное, и на него ещё можно было смотреть.
Когда поспевали яблоки, их складывали под кроватью, и в горнице надолго поселялся яблочный дух. Я просыпалась оттого, что запах яблок щекотал ноздри: это мама Натаня клала их мне около подушки.
А из кухни доносились запахи блинов. Мама Натаня пекла их к завтраку. Никто во всей деревне не пёк такие блины, как мама Натаня. Она пекла их от самых тонких, почти прозрачных, до очень толстых, таких, как оладьи. И назывались они блины, блинчики и блинцы. В одних было пресное молоко, в других – кислое, одни ставились на горячем молоке, другие – на холодном. Мама жила с мамой Натаней несколько лет, но так и не переняла её секреты, может быть, потому, что дольше всего она была с ней во время эвакуации, а тогда блины уже не пекли, не из чего было.
Читать дальше