Рыжик ничего об этом не знал. На Пасху Гурыч вывел его, наконец, на весеннее солнышко и долго чесал свалявшуюся шкуру, угрюмо приговаривая: «От, бля, жись, от, бля, жись… Осиротел ты, дурень, совсем осиротел…». Внимательно слушая поддатого Семена, Рыжик почуял неладное. Воспользовавшись тем, что конюх скрылся в конюшне, конь ушел на деревню. Подойдя к дому Андрея Ивановича, он ткнулся мордой в грязное стекло кухонного окошка и жалобно заржал.
Тишина. Пусто стало в деревне.
Весенние пташки щебетали в голубой вышине, а из соседнего села раздавался нестройный звук гармони на басах. Пустой дом глазел слепыми глазами на весело журчащий в канаве ручей.
Рыжик все понял. Ждать ему больше нечего, и лета не будет. С невидящими от слез глазами он поплелся куда-то вдоль деревни, зачем-то завернул в проулок, споткнулся о какую-то жердь, и, завалившись на хлипкий пересохший тын огорода, умер.
Иванов день (7-е июля) в нашей деревне всегда отмечали с размахом. Каждый населенный пункт двух колхозов-соседей «Малиновки» и «Борьба» считал какой-нибудь престольный праздник своим. Троица, Владимирская, Иванов или Петров день – отмечались пышно, со столами, с гостями, с родней из города и народными гуляньями. Народ стекался туда из близлежащих деревень обычно после обеда и гулял там аж до поздней ночи.
Народные гуляния в деревнях семидесятых – это покруче первомайского парада. Потому что гораздо веселее, потому что все свои и никакого официоза, потому что никаких лозунгов или портретов вождей из Политбюро, въедливых партработников и профсоюзных стукачей. Мало кто понимал истинное религиозное значение данных праздников, но лишний повод расслабиться наши люди использовали на полную катушку.
Городские, если праздник выпадал на будний день, обязательно отпрашивались, брали отгулы, причем заранее, за месяц или больше, чтобы не дай Бог, что-то не сорвалось. И никакие премиальные или авралы для деревенских родителей оправданием служить не могли. В забитых людьми электричках везлись продукты из города. На станцию специально отряжалась колхозная машина или трактор с телегой, чтобы «детям» не тащиться семнадцать километров пехом с гостинцами, а то, не дай Бог, выпьют и съедят половину, пока идут.
Днем старухи и старшие женщины валом валили в церковь. Другие категории человечества церквей в те времена как-то побаивались. То ли наивно полагали, что поп и сексот – сотрудники одного ведомства, то ли, просто, не больно-то в Бога верили. Но стариков уважали и терпеливо ожидали их из церкви – просветленных и румяных, в белых платочках, с просвирками в узелках.
Бабушки наводили лоск на почти уже собранные столы с угощеньями. Родня говела, глотая слюнки, терпеливо ожидая гостей. Шарилась вокруг и под столами мелкотня. В воздухе росло напряжение, и ожидание становилось нестерпимым. И, наконец, когда к дому подходил первый гость – праздник начинался. Часа в три примерно, как-то так.
Мы – мелюзга – ребятня до двенадцати лет, престольные праздники просто обожали. Скучное однообразие деревенской жизни нарушалось стечением огромного количества народа на маленькую сельскую территорию и поражало воображение. Люди текли ручейками – и все празднично одетые. Парни приходили сплошь в белых рубахах, а девушки в красивых платьях. Туфли они несли с собой и надевали уже в деревне.
Во время Иванова дня вредные взрослые разом становились добрее и не жадничали. Столы ломились от вкусностей – драчены, заливная щука, вареное мясо, жареная курица, салаты всех мастей, крупеники с коричневой корочкой, пироги и пряженцы, конфеты, лимонад и даже (!) настоящая колбаса. От всего этого разбегались глаза, и нам хотелось съесть все. Бабушка тихонько подсовывала нам самые сладкие кусочки, а дед, сурово сверкая очами, грозил тяжелой ложкой. Но столы были большие, и ложкой до наших лбов он дотянуться не мог.
Гомон и разговоры. Потом вдруг дед затягивает: «Налей, налей, заздравную чашу» Все поют – это дедова любимая. Там еще женщины должны в конце петь дискантом: «Динь-динь-динь стаканчики!!!», а мужики басами: «Буль-буль-буль бутылочки!!!». Странная старинная песня, но на голоса раскладывалась идеально.
А еще дед любил «Раскинулось море широко». Когда пел, из его глаз слезы капали. Дед был очень старый и очень боевой: и Первую мировую, и Гражданскую, и Отечественную прошел.
Мужчины лихо пили водку или самогон, крякали и обнимали раскрасневшихся, хихикающих женщин, подливая им портвейн «три семерки» в старинные, вытащенные из бабкиных сундуков рюмки.
Читать дальше




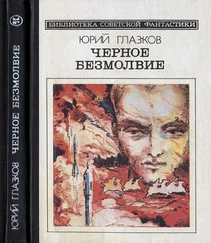


![Юрий Глазков - Черное безмолвие [сборник, 2-е издание]](/books/404668/yurij-glazkov-chernoe-bezmolvie-sbornik-2-thumb.webp)

![Пол Стерлинг - Черная дыра [litres самиздат]](/books/436867/pol-sterling-chernaya-dyra-litres-samizdat-thumb.webp)


