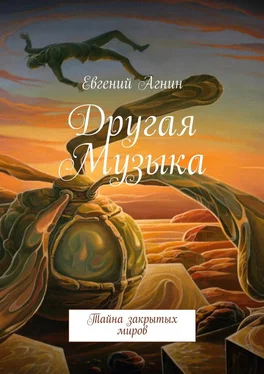Ну что ж, выходит, что экскурсия продолжается.
Я пошел через эту галерею навстречу звукам неведомового оркестра. На стенах «галереи искуств» висели картины от которых сразу же обдало волной странной, непривычной энергии, не просто мрачной, но совсем какой-то чуждой, самозатворенной, будто бы авторы и не помышляли найти понимание у зрителя, более того, последний повидимому и не предполагался. Сгустки душевной муки и затхлой безысходности, превращенные в больные, искаженные образы, с использованием немыслимых сочетаний цвета и линиий, так и вопиели со стен! Даже пейзажи не оставляли уголка для живой, откликающейся души. Душа здесь уже и не молила о выходе, об исходе и спасении. Она молча, безлико и безответно блуждала в лабиринте навязчивых и непроницаемых иллюзий, в свинцовом тумане погибели и безотрадности. Порой и безобразное пленяет, но эти картины вызывали только содрогание душевное, и отвращение из за полнейшего отсутствия каких бы-то ни было точек соприкосновения с неизлечимо больным духом породившим сие.
Я смотрел на картины. Я их разглядывал, хотя и старался глубоко в них не погружаться.
Справа на стене меня поразил пейзаж, выполненный акварелью, небольшого размера, очень простой по композиции. Покосившийся деревянный ветхий домишко сиротливо притулился в ненастную погоду под деревом, почерневшим от дождей, согбенном, скрюченным и уже полностью лишенном листьев. На ветке сидела ворона, сжавшаяся в комок, ощетинившаяся перьями в ответ на порывы промозглого ветра и уколы ледяного ноябрьского дождя, но не куда не спешащая улететь, будто мир закончился и приюта не сыскать нигде: ни в небе не на земле.
Домишко – совсем потерянный, и тяжело придавленный безжалостным космосом. Может быть тело его обитателя еще лежало на старом диване под пледом, но душа уже испытала свободу полета, и поднялась над домишком, над деревом и над вороной. Душа кружила вокруг и даже пролетала прямо над трубой, сковозь дым, разрываемый в клочки злым ветром, но не чуяла ни гари, ни едкого дыма, ни ранящего дождя. Душа не знала, возвращаться ли ей под плед к брошенному телу, либо продолжить свое существование в блужданиях и приключениях свободного полета…
Эта картина отличалась от других, и позволила мне на время согласиться с возможностью существования остальных, и даже бегло осмотреть их. Заполнилась еще картина, вернее черно-белый рисунок, на котором изображены были люди, разгуливающие парами; головы у них были отрезаны и лежали на детских колясках, которые эти пары чинно катили перед собой. Это было напрочь больное, но все же остроумие. Так я тогда подумал и сам ужаснулся своим мыслям. Я сплюнул и выругал себя за то, что стал разглядывать этот рисунок. Дальше шли все сплошь картины подобного содержания.
Одна картина сильно привлекла мое внимание и я остановился перед ней, чтобы повнимательнее ее рассмотреть. Что-то знакомое для меня было в этом изображении. Я не сразу понял, что неизвестный и несомненно душевнобольной художник запечатлел какую-то древнюю пытку. Человек был спиной прикреплен к какому то странному станку. Два больших колеса справа и слева сообщали, повидимому, импульс всему механизму. Колеса крутили два человека облаченных в странные халаты, опоясаные широкими ремнями, бритые наголо, и с лицами, выражение которых трудно было прочитать; непонятные, неизвестные для нормального человека чувства и мысли были отражены на них. Я разглядывал подробности этой картины, которые были приведены художником с маниакальной дотошностью, и уже не сомневался, что передо мной изображение древней пытки, заключающейся в вытягивании жил.
Именно этот процесс я наблюдал в помещении морга. Я не мог оторвать взгляд от картины и чувствовал, что тело мое замерло и наливается тяжестью окаменения. В то же самое время, боковым зрением, я видел, что несколько впереди по этой же стене, к одной из картин подошол какой-то человек, остановился и молча стал разглядывать картину. И продолжалось так минуты две, пока я не пришел в себя. Я стал рассматривать этого человека. Это был тот монах, или кто он там на самом деле. Волосы его были заплетены в косу, достающую до пояса. Но одет он был не в рясу, а скорее в черный халат, напоминающий в кимоно. Руки он сложил на груди. Я мог наконец разглядеть, что он был высок, поболее метра восмидесяти, и сложен ладно: крепко и атлетически. От всей его фигуры, при всем при этом, веяло невероятным спокойствием; я даже стал слышать биение своего сердца, настолько неуравновешенным было мое состояние, если соизмерять по контрасту.
Читать дальше