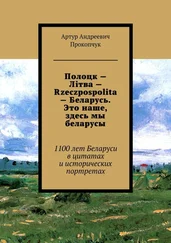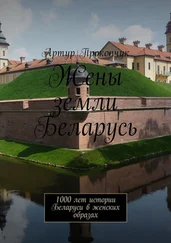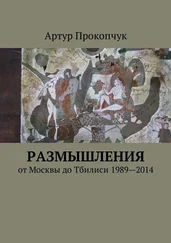Отдельным ярким и страшным воспоминанием от этого года осталась церемония казни, через повешение, военных немецких преступников на городском стадионе каким-то воскресным днем лета 1945-го года. Эта, застывшая в памяти на всю жизнь сцена, стоит перед глазами, не утрачивая своей фотографической резкости: тысячеголовая толпа на поле перед виселицами, ровный ряд «студебеккеров» с откинутыми бортами перед ними, барабанная дробь, строгие каменные лица немецких офицеров на бортах автомашин. Немцы стоят вытянувшись, как на параде, спокойные и, как мне казалось, торжественные, и только один из них во время этой церемонии обмякает, когда ему хотят надеть на шею петлю, его подхватывают под руки и довершают церемонию. Под барабанную дробь, по команде, «студебеккеры» отъезжают, оставляя за собой раскачивающиеся тела. Все кончено, общий вздох толпы, один из повешенных еще некоторое время дрыгает в конвульсиях ногами. Мне помнится, что настроение у всех было близкое к празднику. А мне почему-то не было весело и стало неприятно смотреть, как «висельников» толпа раскачивает за ноги… Если мой брат почти все умеет, если мой брат столько видел, что и за год всего не расскажешь, если мой брат уже на следующий день расквасил нос одному из моих врагов, Леньке-Тянитолкаю, точным боксерским «хуком», то и мне есть, чем гордиться. Я учу моего старшего брата писать. Ну да, он не умеет писать, точнее он умеет писать, но только по-немецки. Я диктую ему русские тексты, а он пишет их немецкими буквами, значит надо переучиваться. Он и говорить умеет по-немецки, а сестра еще и по-польски. Тома во дворе побаиваются все, даже Жорка-Ключник, мрачноватый тип в «малкозырке», который уважительно ставит ему пиво в ларьке наискосок от нашего дома. Осенью мы пойдем вместе в четвертый класс, брат потерял три года учебы в Польше, в немецком лагере, где если и учили, то не тому, что сейчас нужно. Жаль, что пока его нельзя устроить в нашу школу, нет мест, но маме обещали. Мама преобразилась, помолодела с приездом наших, осчастливленная швейной машинкой, которую тетя Нюра провезла через все границы. Машину эту (настоящий Зингер) ей когда-то еще «при царе горохе», до революции купил дед, Александр Павлович, то ли в Вильно, то ли в Варшаве. Бабушка целыми днями сидит за машиной, мурлыча себе что-то под нос, давит ногой на педаль, раскручивая массивное колесо привода. Когда бабушка устает, ее сменяет тетя Нюра. Машина постоянно стрекочет, всем что-то надо, одежды не хватает. На нас, мальчишках, одежда, как говорит бабушка, «просто горит», сестре вообще уже «надо прилично выглядеть», так что с утра до вечера что-нибудь старое распарывается, раскраивается, перелицовывается, перешивается. Из старой юбки получаются новые штаны, из пальто – брату куртка, из каких-нибудь двух старых предметов туалета – один новый. Бесконечная цепочка необыкновенных превращений – явное доказательство закона сохранения материи. Бабушку опять сменяет тетя, машина уже работает в две смены, моя мама тоже работает в две смены, на двух работах и приходит поздно вечером, падая сразу в постель. Мы, если не в школе, то на улице, на «погорелках», сестра в очередной раз, уже в русской школе, заканчивает учебу, чтобы получить аттестат для поступления в институт. Дома она обычно сидит, поджав под себя ноги, и что-нибудь читает или смотрит невидящими глазами куда-то вдаль. От ее красоты у меня захватывает дух, а я уже начинаю в этом разбираться. А у Тома уже бывают и свидания, на которые он меня, конечно, никогда не берет.
Новый учебный год начался, мы пошли в школы, пока в разные, во дворе стали восстанавливать следующий дом немецкие военнопленные, в длинных рваных шинелях, худющие, с запавшими синяками глаз. Том иногда разговаривает с ними и как-то приводит одного «расконвоированного» к нам домой, чтобы он сделал форточку в окне. Бабушка, повздыхав, делает ему бутерброд, за который он потом столько раз говорит «данке», что всем становится неудобно, а бабушка вот-вот расплачется, глядя на его истощенное лицо. Немецких военнопленных становится в городе все больше – рядом с нашим кварталом возникает обнесенный колючей проволокой лагерь, с часовыми на деревянных башенках по углам, с собаками. Все немцы из лагеря заняты на стройке, строят очень быстро, умело. Через четыре-пять месяцев на параллельной нашей Интернациональной улице – Советской улице – возникает громадное, во весь квартал, здание с башнями, колоннами, арками, сразу же закрытыми массивными железными воротами, с появившимися у подъездов часовыми. Это первое здание послевоенного Минска, новое здание нового города, новой, как всем кажется, спокойной мирной жизни. Это желтое здание – Министерство Государственной безопасности, «эмгебе», по-нашему. Здесь работает наш сосед по квартире – «эмгебешник» или» полуночник», по определению бабушки. Мы его никогда не видим, даже не знаем, какой он в лицо, он приходит домой по ночам, и ни с кем, как мы знаем, не поддерживает отношений. Многоопытная бабушка запрещает нам громко разговаривать в коридоре у его дверей.
Читать дальше