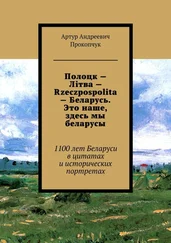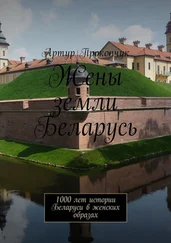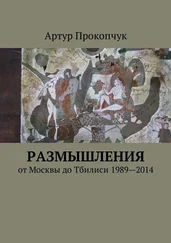В городе по-прежнему темно, вечерами Минск погружается в темноту, а уроки приходится делать вечерами, так как днем на них не хватает времени. Красноватый свет от самодельной лампы дрожит, дрожит тень от ручки, дрожат мои буквы, которые неровно ложатся на прочерченные карандашом линейки-строчки тетради, сшитой бабушкой из разноцветных листов бумаги. Буквы корявые, «больные», как говорит одна из учительниц в школе. С чистописанием у меня плохо, я ведь не учился в первом классе, но говорят, что в третьем его уже не будет. Я сижу впритык к самодельной лампе – артиллерийскому латунному снаряду со сплющенным концом, в котором держится фитиль. От снаряда сильно пахнет керосином, но светит он гораздо сильнее уральских плошек. Это уже почти керосиновая лампа – мечта моей бабушки, мама, как обычно, на работе во второй смене. Через некоторое время выясняется, что старая дедушкина довоенная квартира, то есть комната, в которой он жил, а жил «деда» всегда отдельно от нас, – сказывалась привычка к независимости и собственному дому, экспроприированному у него после революции, – так вот, дедова комната каким-то чудом уцелела в старом доме на Интернациональной улице. Правда там живет, – «полуночник», рассказывая об этом, бабушка понижала голос, – «какой-то эмгебешник». К лету нам обещают вернуть эту комнату, так как «деда», оказывается, работает именно в МГБ, санитарным врачом. Дед, чтобы не ходить поздно ночью через весь город к поселку, ночует на работе. Поговаривают, что в городе «шалят какие-то банды». Скорее бы лето, все устали от зимних холодов, от бесконечных забот о печке-буржуйке, прожорливой, как топка паровоза, от окон, из щелей которых все время дует, от плохой зимней одежды, зимних проблем с умыванием, словом от первой зимы. Мы, хотя и в Минске, но не дома. Нашего дома больше нет, а дедушкин – занят чужими людьми, говорят, офицерами МГБ.
Мы, наконец, получаем в свою собственность довоенную, дедушкину комнату, в старом двухэтажном доме, сохранившимся во время войны, на втором этаже. Комнатенка маленькая, с высоким узким окном, высоченной белоснежной кафельной печкой и недосягаемым потолком, отчего комната кажется еще меньше. Поселяемся в ней втроем – мама, бабушка и я. Дед, привыкший к независимому образу жизни, по-прежнему отдает предпочтение служебному кабинету и столу, за которым он пишет и на котором спит. Через некоторое время дед находит сдающуюся на окраине города в частном бревенчатом доме комнату, и семья окончательно переходит на оседлый образ жизни. У нас в комнате есть настоящая электрическая лампочка, прикрепленная двумя согнутыми крючками проводов к таким же, торчащим прямо из стены. То, что в них есть электричество, обнаруживает случайно дедушка. Мы начинаем «воровать» свет, так как счетчика у нас нет, да и достать его невозможно, а соблазн слишком велик – четыре года мы жили без электрического света. Счетчик здесь был, но прежний жилец, «эмгебешник», переезжая, вырвал из стены щиток с электросчетчиком, сорвал всю проводку и, чтобы не входить на новом месте в лишний расход, заодно и свинтил ручки с дверей и окон. Напротив нашей двери, квартира-то общая, с другими жильцами, коммунальная, проживает тоже «эмгебешник», при котором, если он дома, шепотом говорят уже все, не только бабушка. Соседи, налево из наших дверей, старые, еще довоенные, приехавшие раньше нас, обычная еврейская семья – Ботвинники. Я долго не могу понять, кто из них кому кем приходится. Дора Моисеевна с сыном Маратиком и с мужем Михаилом Семеновичем, – упорно называет его Мойшей, – занимают две комнаты с балконом. Маратик зовет Мойшу дядей, оказывается Дора и Мойша – брат с сестрой.
Наш старый квартал по улице Интернациональной почти весь чудом уцелел, хотя на противоположной стороне улицы нет ни одного сохранившегося дома, кроме «монастыря бенедиктинцев». Впрочем, его ждала такая же участь, как и остальных, разрушенных войной, строений. Когда я случайно нашел в интернете этот рисунок, то глазам своим не поверил. Это было местом наших дворовых игр. «Советы» потом взрывали его целую неделю, а у нас дрожали стены и тряслись стекла в окне. Чей это рисунок, я так и не нашел, или затерял где-то в своем архиве… Поблагодарил бы автора, что разбудил мою память…
За задним фасадом дома, рядом с уцелевшим костелом, выходящим на площадь Свободы, светит пустыми окнами, выгоревшая изнутри, старинная башня с часами. Школа, в которую я сначала перехожу, размещена в служебном здании монастыря, впритык к костелу. Несколько раз я, не в силах удержаться, несмотря на запрет бабушки, захожу в костел, когда там идет служба. В костеле мне все очень нравится – и пение, и музыка, и строгие статуи святых во всех приделах. Только обязательное буханье на колени вызывает у меня еле сдерживаемый смех, за который какая-то из старушек-прихожанок больно тычет мне в голову сухим кулачком. Костел, правда, очень скоро закрывают, и он стоит печальный, красивый, со своими двумя белыми башнями, среди обшарпанных, уцелевших домов, ожидает свою участь.
Читать дальше