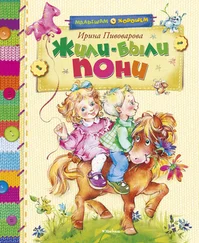Нас с мамой подселили в деревянный двухэтажный дом, к тете Тоне Зайцевой. Дом был очень старым, за водой приходилось ходить едва ли не на край света – через две улицы, к колонке. Принесенных двух ведер хватало только сварить обед и ужин. Правда, невеселая эта доля легла сначала только на маму, но потом и я, подросший, подключался по мере сил к водным походам.
На втором этаже были четыре квартиры. Чтобы попасть в нашу, нужно было пройти по длинному скрипучему коридору до самого конца. Из трех комнат одну тетя Тоня отдала нам, в другой ночевала сама с погодками, а в третьей спал Вовка, старший ее сын. Сказать по совести, я сначала его побаивался – очень уж злым показался мне этот тощий хмурый мальчишка, старше меня аж на целых три года. Когда мы только поселились в доме, Вовка уже закончил третий класс, а потому смотрел на меня, дошколенка, с недосягаемой высоты своих почти десяти лет и школьной премудрости. Только потом я узнал, что на нем держится все хозяйство тети Тони, что он может и за девчонками приглядеть – Лидке тогда было два года, а Соне – три; что он добр и застенчив, и от застенчивости нелюдим. Но все-таки мы не смогли с ним подружиться – три года, незаметные во взрослой жизни, тогда, в детстве, барьером разделили нас.
А вот мама и тетя Тоня ладили отлично, несмотря на всю их несхожесть. Тетя Тоня работала штамповщицей на механическом заводе, эвакуированном в город, кажется, из Тулы. Невысокая, полная, краснолицая и белобрысая, она была внешне полной противоположностью моей худенькой, черноволосой маме. Тетя Тоня была шумной и залихватской, все наружу – смех ли, горе ли. Мама же все держала в себе, и даже о тяжкой ее усталости после суточных дежурств можно было догадаться лишь по запавшим глазам. Впрочем, обе они сходились в умении помочь кому угодно по первому слову да по горькой судьбе, обычной тогда у любой тыловой женщины.
Редкими свободными вечерами мама и тетя Тоня мирно возились в тесной кухоньке, опровергая известную поговорку о двух хозяйках у одной плиты, то есть печки. Мама ставила уколы часто болевшим хозяйским девчонкам, тетя Тоня в первую же весну оделила нас мешком семенной картошки, когда горсовет выделил эвакуированным участки под огороды. И очень часто, когда мама задерживалась в госпитале или оставалась на ночное дежурство, тетя Тоня кормила меня и укладывала спать, не отличая от своих детей.
Впрочем, обо всех этих взрослых делах и заботах я стал догадываться много позже, по маминым рассказам, по собственному опыту. Тогда, сказать честно, мне не это было важно. Большой старый двор, где летом можно было прыгать в классы, а зимой заливать замечательную горку. Озеро в центре города, в котором с мая по сентябрь бултыхалась вся местная ребятня. Парк, где так хорошо играть в прятки. Замороженные стекла окон – на них расцветали такие замечательные зимние узоры. Герань на подоконнике у тети Ани, соседки из квартиры справа. Злой и сварливый инвалид дядя Толя, муж тети Гали из первой квартиры. Свирепый пес Полкан, которого я потом приручил. А еще – школа, букварь, карандаши и непроливашка-чернильница, друзья-приятели, среди которых, увы, так и не нашлось одного настоящего, единственного друга. А еще – черная тарелка радио, сначала горько-жгучая, а потом все чаще взрывающаяся радостными залпами салютов. А еще – сверкающий солнцем и слезами отчаянный майский день сорок пятого. Вот что было тогда мне важно, а вовсе не взрослые заботы.
Одно только было общим для всех – голод. Судороги в желудке преследовали нас даже по ночам. И самым страшным событием¸ после, конечно, похоронки, была потеря продуктовых карточек.
Однажды утром тетя Тоня вернулась из ночной смены и не стала, против обыкновения, ложиться вздремнуть на час-полтора, а пошла на рынок. Кто-то сказал ей, что там с утра меняют женское белье на пять килограммов муки. Тетя Тоня уже три года бережно хранила подаренный ей перед самой войной мужем «гарнитурчик» – не поднималась рука продать, мужа ждала. Но, видно, не выдержала. Уже стоял июнь, старые запасы картошки подходили к концу, новых было еще ждать и ждать, и пять килограммов муки оказались бы весьма ощутимым подспорьем. Вовка, помнится, отправился в долгий поход за водой, а Лидка и Соня, уже пяти– и шестилетние, оставались на моем попечении. Мама моя вторую ночь дежурила в госпитале, и я втайне надеялся, что вот вернется Вовка, я оставлю на него девчонок, а сам сбегаю к ней. И, может быть, госпитальная повариха Клавдия нальет мне щедрой рукой миску такого замечательного, обжигающе горячего, ароматного кулеша.
Читать дальше