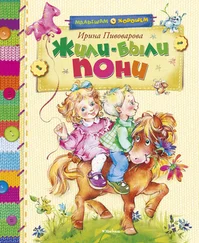Сколько мы так сидели, я не помню. Соня и Лидка молчали. В раскрытое окно влетела огромная муха и с утробным жужжанием принялась носиться вокруг лампочки.
Снова застучали шаги на лестнице. Я втянул голову в плечи. Но это были не мама и не тетя Тоня. Шагнула в дверь почтальонша Надя, оглядела нас, спросила:
– Девки, мать где?
Девки дружно заревели.
– В милицию она пошла, – сипло объяснил я. – Карточки у них украли.
– Господи, – охнула Надя. Но – показалось ли мне или вправду в глазах ее мелькнуло облегчение? – Вот… Саш, письмо им. Отдай сам, ладно? – она вдруг всхлипнула и выскочила за дверь.
Я повертел в руке грубый прямоугольный конверт. Номер полевой почты был дяди Андрея, мужа тети Тони. Но фамилия отправителя стояла чужая, В таких конвертах приходили обычно похоронки.
Заледеневшими пальцами я положил письмо на стол. Внизу снова скрипнула дверь, слышен стал голос мамы. Я втянул голову в плечи и, закрыв уши ладонями, кинулся вон.
Ночью я проснулся от нестерпимой духоты. Сел, спустил ноги с кровати, помотал головой. Во рту было мерзко, голова болела. Прислушался. В квартире было тихо, но тихо как-то по-мертвому, даже сопения девчонок почти не было слышно.
Весь вечер в доме нашем царила суматоха. Тетя Тоня, увидев похоронку, упала в обморок. Мама не могла привести ее в себя минут пятнадцать. Девчонки, увидев желтое, застывшее материно лицо, дружно заревели. Вернулся с завода Вовка – злой, подавленный, его не взяли, конечно, лет не хватало. Одна за другой возвращались с работы соседи, узнавали, в чем дело. Тетя Аня принесла два килограмма пшена. Тетя Валя – огурцов с огорода. Даже прижимистый дядя Толя вынес из закромов с полкило сала, покрытого коркой соли. Мама отсыпала половину оставшейся у нас картошки. Тетя Тоня словно не видела всего этого. Она сидела на табурете, раскачиваясь из стороны в сторону, словно деревянная кукла, и по осунувшемуся лицу ее непрерывно текли слезы.
Я помотал головой и побрел в кухню. Глотнуть бы воды, умыться. Душно. Включил свет, дотопал до ведра с водой, зачерпнул от души. Мелкими глотками выпил степлившуюся воду, урча от наслаждения, присел к столу. На линялой клеенке лежал листок бумаги. Я развернул его.
– «Люди, простите меня, – ударили в глаза неровные строчки. – Все одно с голоду помирать. А так хоть детей в детдом возьмут, кормить-одевать станут. Деточки мои, простите меня. Так будет лучше. Антонина».
Я заорал и кинулся в комнату. Мне вдруг показалось, что это мама написала мне это письмо. Я схватил ее за плечи, затряс бешено. Мама проснулась, села на кровати, сонно спросила:
– Санькин, ты чего?
Тетя Тоня повесилась в сарае, где хранились дрова. Когда всполошенные моим криком соседи, обыскав двор, вынули ее из петли, она еще, хоть и слабо, дышала. Нас, детей, туда не пустили. Спустя какое-то время носилки с вытянувшимся на них телом затолкали в карету «Скорой помощи». Соня и Лидка выскочили во двор и с плачем кинулись за машиной. Вовка перехватил их у ворот, обнял, прижал к себе, спрятал лицо в их светлых легких волосенках.
Я дотянулся до шкафа, в котором мама хранила крупу и хлеб, достал горбушку, предназначавшуюся мне на утро. Медленно спустился во двор, чувствуя, как наполняется слюной рот, подошел и спросил тихо:
– Жрать хотите?
Соня и Лидка перестали плакать, одновременно кивнули «Да». Вовка, в один такт с ними, покачал головой: «Нет». Я протянул им горбушку.
Вовка мотнул хлеб на ладони, вздохнул и ловко и умело разломил на три совершенно равных части. Две протянул сестрам, одну мне. А сам аккуратно и быстро слизал с ладони несколько оставшихся на ней крошек.
19.02.2007.
Иван да Марья
Ох, и красивая же была это пара – Иван да Марья. Точно из русских сказок пришедшая, из тех далеких времен, где древняя Русь водила хороводы вокруг своих костров. Они и похожи были на картинки из детской книжки: высокий, синеглазый, широкоплечий Иван с льняными кудрями и маленькая сероглазая Марья с толстой русой косой, предметом зависти и ровесниц, и женщин постарше.
Ее так и звали все – Марья. Не Маша, не Манька и не Маруська. Даже девчонкой она выделялась среди сверстниц – спокойствием каким-то, немногословностью и рассудительностью, совсем не детской прямотой. Как глянет на тебя огромными глазами – всю душу, кажется, вывернет, все до глубины поймет, до донышка. Недаром мачеха ее ведьмой звала, но не ударила ни разу, даже не замахивалась. Боялась.
Мать у Марьи умерла, когда девочке минуло двенадцать, – утонула. Речка наша, Калинка, хоть и неширокая, а глубокая, и тонули в ней, бывало, даже в августе, в жару, когда обнажались берега и отмель на середине реки становилась видна. А в июне, после бурных весенних дождей, и вовсе не редкость. Хорошо женщина плавала, да, похоже, ногу судорогой свело; ее только на другой день нашли под мостом, тело отнесло течением. Отец Марьи на похоронах стоял совсем черный, а на другой день запил. И пил беспробудно три месяца. А через полгода привел в дом новую жену. Та девчонку невзлюбила сразу, хоть и старалась виду не подавать. Не обижала вроде, даже ругалась не сильно, не ударила ни разу – а все ж не приласкает никогда и кусок получше, как родная мать, не поднесет. Диво ли, что Марья после свадьбы перебралась в дом мужа. Свекровь-то, Софья Ильинична, приняла и полюбила ее сразу. Да и мудрено было ее не полюбить.
Читать дальше