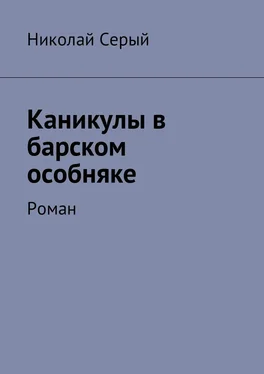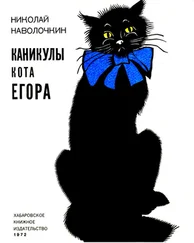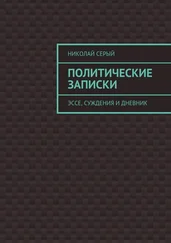И Осокин мысленно одёрнул себя:
«Только не надо теперь умственной суеты, суматохи…»
И вскочил он с лавки и, снуя по комнате, размышлял:
«А если мне избрать тактику этого Кузьмы? Личину на себя напустить абсолютной покорности!.. Нет, одной только личиной их не обмануть. Не дураки ведь они и распознают актёрство. Халтуре не пособит и театральная система Станиславского… И хозяин с козлиной бородкой не прост. Не объегорить его, не облапошить. Надо не играть, как на сцене, а на самом деле стать их рабом, одержимым беспредельной и искренней любовью к барам и полной покорностью им… Ведь и Кузьма поначалу не играл, но всей душою был им предан… И поверили ему, и перестали с ним быть настороже. И когда исчезла его вера в них, и он, разочарованный, стал актёрствовать, то они были уже не способны различить его притворство… И мне нужно не уподобляться рабу, но доподлинно стать им. Полюбить своих господ и разделить всей душою их цели и чаянья…»
Осокин плечом притулился к двери и подумал:
«Но какие у них могут быть цели? Если собрались они меня, походя, убить, то, значит, они уверены в своей безнаказанности. Ведь меня, действительно, никто искать не станет. Меня облыжно обвинили в шпионстве, и цель сакрального убийства меня в том, чтобы сообщников кровью вязать в капище… Наверняка у них есть иерархия. И для спасения надо мне в эту иерархию пролезть. Но как мне сделать себя абсолютно покорным?..»
Он усмехнулся краешком рта, и мысли нахлынули:
«Учили меня, что бытие определяет сознание. Следовательно, коли я буду вести образ жизни верного и покорного раба, то я действительно им стану… Как в семинариях крепят веру в Бога?.. Читал я где-то, как юный первокурсник был наивно убеждён, что в семинарии докажут ему неопровержимыми резонами бытие Божие, рассеяв сомнения. И тогда вера станет живой, осознанной… Тщетные упованья!.. Семинаристов просто принудили к образу жизни, оправданием и смыслом которой был только Бог. Их муштровали, как матросов, под дудку и колокол. Коленопреклонения, ночные бденья, посты, молитвы и исповеди крепят веру сильнее, нежели аргументы. Чтобы из ярого безбожника сделать религиозного фанатика, надо его заставить вести образ жизни этого фанатика. И тогда плоть его, страдая от вериг и самобичеваний, принудит его сознанье принять идеи, которые такую жизнь поощряют и оправдывают… Значит, нужна мне рабская покорность… Я раб, раб, – начал он себе мысленно внушать, – жалкий и ничтожный, но беспредельно верный своим господам…»
Он усмехнулся, скалясь во все зубы, и подумал:
«Странно, что я кумекаю во всём этом. Какие интересные идеи у меня вылезли из подсознания!.. А ведь я даже не подозревал, что я помню что-то из философии. А как приспичило, так и вспомнил я психологические выверты».
Он стал на колени и вздыбил руки. И размышлял он:
«Мне нужно изнурить плоть. Пожалуй, хорошо, что досель меня здесь не покормили. На сытый желудок всегда выглядишь менее жалким, чем с икотой от голода…»
И вздрогнул он от страха перед смертью, и вдруг почувствовал, как страх этот начал проходить… Осокин уже утомился вздымать свои руки, и сложил он их молитвенно на груди. Внезапно появились у него на глазах слёзы от непонятного ему умиления. Затем он понял, что умилён он своими новыми господами, их словами и жестами. И все повадки и речи его господ стали ему казаться исполненными великого смысла, особенно у Кузьмы. И начал Осокин их беседы воспринимать грозным пророческим клёкотом потусторонних тварей.
Сначала некая часть его сознания наблюдала с иронией и презрением за этими метаморфозами. Но порождало такое наблюдение смертельный ужас, и начал Осокин быстро утрачивать способность видеть себя как бы со стороны. И вместе с потерей способности его к самоанализу исчезал его страх… Несколько минут тревожила Осокина его раздвоенность, и отчаянно хотелось ему избавиться от неё и стать не тем человеком, который на себя способен смотреть как бы со стороны, но обрести цельность гордого своей верностью господам холопа.
Он вздымал руки и бормотал:
– Они – воистину мои господа!.. Они – столпы и жрецы великой истины. А я бездумный и колеблемый листик, который летит по ветру над слякотным, грязным шляхом, пока не угодит в лужу на обочине, чтобы сгнить там…
И снова утомился он держать дыбом свои руки, и опять он их сложил молитвенно на груди… И старался он воображать те великие блага, которыми хозяева наградят его за покорность и верность…
Читать дальше