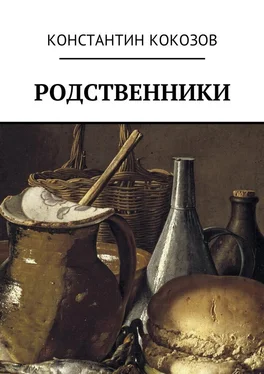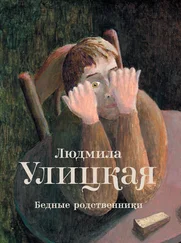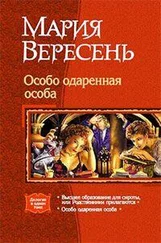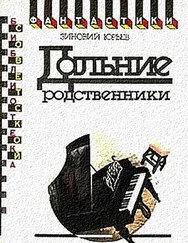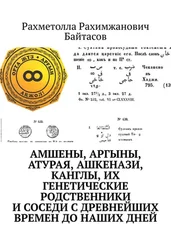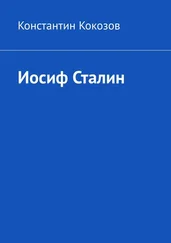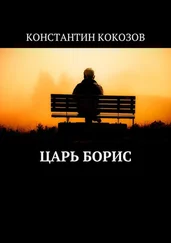Хорошим топливом служила и так называемая карма. Исходный материал для нее получали в клетках, где в зимний период содержали овец. В течение нескольких месяцев, если овец было достаточно, а если меньше – то всю зиму, в клетках овечий помет вместе с остатками сена размешивался и прессовался самими животными и постепенно превращался в карму. А когда хозяин видел, что толщина естественной кармы достигла нужной величины, то ее, так же, как и басму, резали штыковой лопатой на небольшие квадратики и прямоугольники и выносили на улицу досушивать, а потом складывали в сторонке. Из кармы топливо получалось самое лучшее: она долго горела и тепла давала больше. А из кизяков и карм получались машаллы – подобия факелов. Если пастух чей-либо скот не пригонял домой – оставлял случайно на пастбищах, или, бывало, провинившиеся дети не шли домой, боясь отцовского наказания, то хозяева животных или родители не вернувшегося чада, вместе с соседями и родственниками – человек десять – вооружались машаллами. Вилами протыкали брикет кармы, обливали ее соляркой или керосином и зажигали, а потом поднимали высоко над собой, чтобы освещать путь. Шли по полям и лугам, по дворам, искали не пришедшую домой скотинушку или своих нашкодивших детей, спрятавшихся где-нибудь за забором. Кстати, по количеству заготовленных на зиму запасов кизяков и кармы, можно было определить и уровень материального достатка того или иного крестьянина. У некоторых зажиточных крестьян забор во всей длине, высотой в два метра, был обложен кизяками и кармами. Большие, уложенные с любовью, плитки этого топлива лежали и у забора. С приходом советской власти и колхозного строя уменьшилось в хозяйствах поголовье крупного рогатого скота и овец, меньше стало и зимнего топлива. Нехватку в кизяках народ восполнял с помощью титена, так называли на Цалке сухую коровью лепешку. Титен собирала в основном детвора. Встанешь летом рано утром, протрешь глаза, а мама с мешком в руке подходит к кровати, подает рубашку:
– Давай, сыночек, Ваня Никифоров уже третий рейс сделал, – говорит она и улыбается.
– Как так три рейса, а мне чего не сказал! Ну-ка, давай рубаху! – спрыгнешь с кровати, выхватишь из рук матери мешок и айда на луга. Задача – догнать и перегнать Ванюшу Никифорова. Ладно, подумаешь про себя, цыплят по осени считают, вечером подведем итоги. Посмотрим, кто больше соберет и принесет. Для выполнения задания бежишь как угорелый.
Хорошие кизяки получались из лепешек крупного рогатого скота, особенно если к ним добавить немного остатков сена из яслей. Помет других домашних животных шел на удобрения для огородов.
Работая на ферме, Илья Габо видел и не понимал многие вещи, претворяемые в жизнь новыми общественными организациями. К примеру, Габо удивлялся, почему умные люди из города – а новую жизнь организовывали люди оттуда – в два раза уменьшили рацион корове? Если раньше в селе на зиму заготавливали три-четыре тонны сухого ароматного первосортного сена на каждую фуражную корову, то сейчас запасались всего двумя тоннами на условную единицу крупного рогатого скота. Разве коровы дали честное слово Ленину и Сталину, что будут есть в два раза меньше, а продукции давать в два раза больше, тем более в условных единицах? И это на зиму протяженностью в шесть-семь месяцев тяжелой, холодной погоды. Собранный трудолюбивыми односельчанами и привязанный в наспех сколоченных колхозных фермах, скот чахнул на глазах своих бывших хозяев, превращался в живые скелеты. И происходило это от бездарного отношения новоиспеченных руководителей к крестьянскому делу. Увидев это, Илья Габо вышел из колхоза. Стал он вновь единоличником, но через пять лет снова подал заявление о приеме в колхоз. Не добровольно, а по настоянию своих взрослых детей, которые убедили отца: «Не иди против власти, пока власть не заметила тебя». К этому времени старшие дети у Габо выросли, некоторые сыновья женились, две дочери вышли замуж, а Терентий и Емельян привели невестушек в дом. В связи с расширением семейства, Илья Пантелеевич занялся строительством комнат для молодых семей. Решено было с северной стороны увеличить дом почти на такую же длину, тем более что размеры огорода это позволяли.
– Комнату и коридор каждой семье нужно выделить. Скоро дети пойдут у молодоженов, негде будет ноге ступить, да и в тесноте дружно жить невозможно, – рассуждал сам с собой Илья Пантелеевич и вместе с сыновьями взялся за дело. Надо сказать, что в деле строительства новых комнат для сыновей посильную помощь оказывала и сторона невесток, сваты Габо. В этих местах существовал такой негласный порядок: девушка, выходя замуж, брала с собой приданое без недвижимости, тряпки разные, даже корову, а чтобы зять пришел в дом невесты и жил там – никогда, считалось, что это могли позволить или очень слабые во всех отношениях женихи, или очень бедные. Женихи нормальные, умные, знающие, что для молодого человека самое главное – его молодость и здоровье, никогда не могли даже помыслить об этом. Однако помощь от тестя, в любых размерах и в любом виде, даже самый гордый жених принимал, а потому, когда Илья Габо строил своим сыновьям дома, хорошую, огромную помощь оказали сваты. Они не только деньгами, тогда очень скудными, помогали новым родственникам, но и работали от начала до конца стройки. Практически новое жилье молодоженам строили родители с обеих сторон, а почести получала только одна сторона – отец парня.
Читать дальше