– Опять двадцать пять! Когда это кончится? – застонала Надежда.
– Когда-нибудь, – неопределенно ответил Лева. – Меня попросили – я передал.
– Я тоже хочу тебя попросить.
– Извините, Надежда Константиновна, идет вторая минута перемены.
– Лева!
– Если вам не терпится пообщаться с моим отцом, могу дать домашний телефон. Забивайте стрелку сами. Ему даже приятно будет. Мама в санатории.
– При чем здесь мама?
– При том самом, – томно прищурил глаз циничный Бронштейн. – И Ульянов от ревности дара речи лишится и прекратит вас своими посланиями бомбардировать.
– Послушай, Лева, я вовсе не собиралась беседовать с твоим отцом.
– Мне показалось?
– Показалось. И вот что. Открой, пожалуйста, конверт.
– Он не мне адресован.
– Здесь не написано, кому он адресован.
– Подразумевается. Написано: «От Ильича». Вы – Надежда Константиновна. История подсказывает…
– Ах, история? Ну, тогда ты сам почти что Троцкий! Конверт вскроешь? Читай вслух.
– Завтра было бы поздно. Точка. Думаю о вас постоянно. Точка. И подпись: Ленин. Всё.
– Пойми, твой друг просто-напросто издевается надо мной, используя нелепое созвучие имен. Вместо того, чтобы по напутствию лица, с которым он себя идентифицирует, «учиться, учиться и учиться», он издевается, издевается и издевается. В какое дурацкое положение он меня ставит и, главное, за что?
– Все они, Ильичи, сволочи лысые.
– Лева!.. Ты бы что ли поговорил с ним, вы все-таки друзья, одна джаз-банда, можно сказать.
– Банда-то, мы банда, – согласился Лева, – но, к сожалению, с некоторых пор не джаз, в стенах школы во всяком случае. Когда нас разогнали, никто не вступился. И вы промолчали, а хорошо ли это? Ладно, забудем. С Ульяновым я поговорю. Если хотите, на дуэль его вызову – с десяти шагов из рогаток.
– Не надо из рогаток… Знаешь что… Заходи вечером ко мне в гости на чай. Гитару захвати.
– Надежда Константиновна, а с Ильичом можно?
– С Ильичом?
– Даю слово, он не будет больше. Без его скрипичного сопровождения репертуар сильно проигрывает.
– С Ильичом, так с Ильичом. Кстати, почему его в школе нет?
– Между нами только. Прогуливает. Курьез утром произошел. Целился он из нашего любимого оружия…
– Из рогатки?
– Ну, не из «Макарова» же. Так вот, целился он в мягкое место позора нашей географии, а угодил, черт его знает как, в упругую ягодицу возрождения физической культуры. Василий Иванович его не догнал, но обещал все уши пообрывать. Справку я ему сделаю. Всё, побежал, перемена заканчивается, покурить не успею.
– Бронштейн!
Но Лева уже выскочил в коридор, пролетел, минуя по три ступеньки кряду, два лестничных пролета и остановился у двери на второй этаж, из-за которой доносились обрывки беседы Зиновия Аркадьевича Каменева с Анной Захаровной Микоянской. Обрывки эти сливались с общим монотонным шумом перемены и никакого интереса собой не представляли. Однако последняя случайно долетевшая фраза директора почему-то испортила Леве настроение. Так бывает иногда. Ничего особенного Лева не услышал: «Ну, вы же понимаете, Анна Захаровна, что это – дело каждого коммуниста». Невольно подумалось: до какой же степени все изолгались, кого они из себя корчат? Ладно бы с высокой трибуны, а то ведь в простом разговоре с глазу на глаз… Интересно, чего, собственно, добивается Надежда Константиновна? Домой вот к себе пригласила. Неужели хочет таким способом дешевый авторитет заработать? Ильич ее достал, спору нет. Ну и приглашала бы его, меня-то зачем использовать?.. Неожиданно Лева стал противен сам себе. Нельзя же, в самом деле, всех равнять с этими задницами. Так и жить расхочется. Ноги сами спустили его на первый этаж, вынесли на улицу и понесли дальше. Следующим уроком по расписанию была география, следующим действием Левы Бронштейна – звонок из ближайшей телефонной будки Володе Ульянову. Ильич пригласил в гости, пообещав показать другу поэму, от которой не придет в благоговейный трепет разве что биологический урод вроде Зямы Каменева.
Если передвинуть стрелки на несколько часов назад, можно увидеть, как Володя Ульянов кружит на велосипеде по аллеям Чапаевского парка. Затем он пересекает улицу Вальтера Ульбрихта и движется в сторону кинотеатра «Ленинград», отдавая должное важнейшему из искусств. На афише силуэты четырех всадников на фоне багрового заката.
Фильм «Неуловимые мстители» Володя знал наизусть. Крутить педали надоело. Возвращаться в школу – просто опасно. Хорошо бы домой. Скрипочку взять. И из Равеля что-нибудь. Но маме на работу к двенадцати (на часах начало десятого). Врать и изворачиваться перед ней глупо и не хочется, говорить правду – тем более. И без него настрадалась из-за старшего паразита (…братан Сашка сквернословил на Красной площади перед святой усыпальницей, и там же его стошнило на блюстителя порядка при вооруженных фотоаппаратом иностранных туристах. Несмотря на то, что пленку засветили, Саша был исключен из литературного института и угодил на пару лет в стройбат, распиздяй. Благо, отец, земля ему пухом, Илья Николаевич не дожил до этого позора). Ничего не оставалось, как повернуть обратно в Чапаевский парк. Прислонив «Орленка» к стволу раскидистой рябины и устроившись на лавочке под ней же, Ульянов младший погрузился в чтение самиздатовских «Москвы – Петушков», оставленных ему братом Александром, да так увлекся, что не заметил, как и время пролетело. Прав Ерофеев: не споет Максим Горький песен о поколении, идущим вслед за ним (Веней), – подумал Володя, закладывая рябиновым листочком страницу на прогоне «Купавна – 33-ий километр». Он сунул рукопись в прикрепленный к багажнику портфель, в котором лежали также засунутый мамой пакет с бутербродами, рогатка, потерявший актуальность «Дневник пятилетки» (его Володя любил как бы невзначай полистать на уроках географии перед Микоянской), несколько тонких тетрадок и пачка конвертов для корреспонденций Надежде Константиновне, и поехал домой. Притормозив по дороге у мусорного контейнера, он открыл портфель и выбросил поочередно рогатку, «Дневник пятилетки», а поколебавшись минуту, и связанные тесемкой конверты. При этом произнес в никуда загадочные слова: «Это не наш путь. Мы пойдем другим путем».
Читать дальше
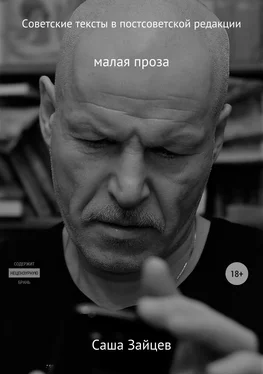
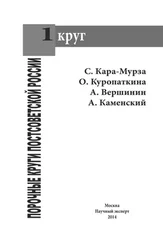





![Саша Зайцева - Госпожа Марика в бегах [СИ]](/books/391278/sasha-zajceva-gospozha-marika-v-begah-si-thumb.webp)
![Александр Горбачев - Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях. 1991–2021 [litres]](/books/434600/aleksandr-gorbachev-ne-nado-stesnyatsya-istoriya-postsovetskoj-pop-muzyki-v-169-pesnyah-1991-2021-litres-thumb.webp)



