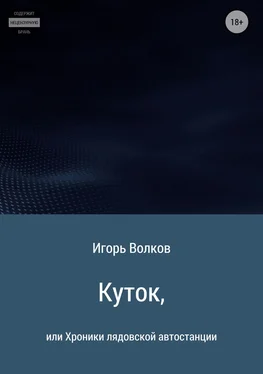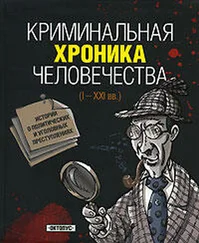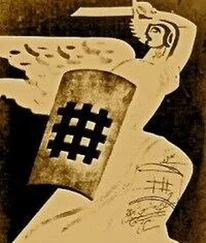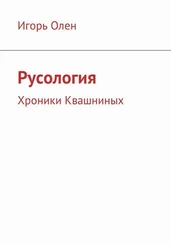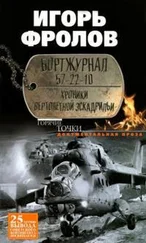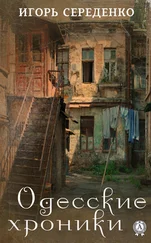Что касается канонической версии наших знаменитых мужей – русских славистов Якубовича, Калайдовича и Г.-Ф. Миллера, основанной на маляве Кирюхи Данилова с Урала, то все вроде и наоборот выходит. То есть добирался Илия из Мурома в Киев «через лесы Брынския, через грязи Смоленския», где и повстречал нашего Соловья. Допустим, что в Киев он и шел, (хотя, что ему там до дела было на окраине?) но ведь заблудиться-то мог? Мог он крюк сделать? Водил же нас Моисей по Египту кругами? Ясно – заплутал Илия. А тут: «Засвистал Соловей по-соловьиному, а в другой зашипел разбойник по-змеиному, а в третий рявкает по-звериному. Под Ильею конь окарачелся и падал ведь на кукарачь…» Тут стрельнул Илья стрелой своей каленой «и попал Соловья да в правый глаз – полетел Соловей с сыра дуба, с сыра дуба комом до сырой земли…» Глупости это всё, наш современник Пьецух так реконструирует дальнейшее: стрелу якобы извлекли и стали «…лить прямо на то место, где у Соловья только-только был глаз, перекись водорода; на ране зашипела очень большая, пузырящаяся розовая гвоздика, и кровь постепенно остановилась». Все. Умер.
…Делать нечего: посетовали, что не в то время и не в том месте оказался Солова, закопали свистуна, поминки отпраздновали, поплясали… А на сороковины Дятел захандрил. Никак отойти не может – свой мед выпил, Скворцов мед выпил, побираться ходит. Он один ведь жил, кто ж его остановит, чародея и созерцателя… Он чем-то на Л. нашего был похож, полубес, словом. Не могу, – говорит Сквору, – не могу и все тут. Тошно, бля. Уйду. И вон из леса. Спохватились – нет Дятла. Ушел, подлец, в горы подался. И Скворец бы ушел, а семья? Разве всех восемнадцать жен уговоришь разом? Уговорил, однако. И тещ, и жен, и детей. Со временем, конечно: кого битьем, кого катаньем. Я, говорит, или запью запоем, или брошу всех к чертям собачьим! Или сначала запью, а потом брошу, но к Дятлу все одно уйду. Что мне тут одному – ни спеть, ни выпить.
Собрались и пошли. А какой у мордвы скарб? Смех один. Короче – идут. Лесами идут, тропами бредут, речками плывут. Смотрят – на самой горе высокой Дятел сидит. Точнехонько в середке лядовской автостанции. Т.е., конечно, автостанции-то еще и быть не могло, сам понимаешь. Ни поля картофельного, ни погоста не было. Откуда? Никто ведь не умер еще. Да и не было там никого кроме Дятла живого со своими амбициями. Место одно на горе и все. Такая вот история.
На той горе, самой высокой в Дятловых горах, потом еще водокачку поставили и два резервуара надземных метров по десять для запаса воды. Их потом снесли, конечно, при развитом социализме, но водопроводный участок – тот оставили (о чем там себе думают?) А какой дурак, даже развитой, водокачку в низине поставит? Наверху, ясно дело: вода сама по себе только вниз текет.
Выходит – Дятлова она автостанция, а не лядовская. Хотел было Л. историческую справедливость восстановить – переименовать, да что ты! В вашем-то городе? Насрать, говорит, мне на все, и пошел пиво пить… Так-то.
Я ведь его лично знал, Л., по двору и по детству. И маму его знал – она двор-то наш не очень любила. Ненавидела она двор. Люто, можно сказать, патологически ненавидела. Она и название ему это страшное дала – «куток». Как бы унизительное. А всем оно сразу понравилось, ко двору, можно сказать, пришлось: куток он и есть куток – что-то такое домашнее, но слегка приблатнен ное.
А если кому этот двор чем-то не нравится – так ведь всем, а более всего Л., насрать было. «Насрать» – второе слово, которое выговаривало новорожденное дите конца 50-х после «мамы», а у Л., я уверен, и первое. Это было естественное состояние души, некий онтологический аргумент.
Во дворе я прожил первые двадцать лет жизни. Они же и самые яркие.
А что, собственно, такое наш двор? Бывший наш двор?
Это открытое пространство, окруженное желтыми трехэтажными кирпичными домами. Родился двор вместе с Л. И мной – в 57-м. Тогда это называлось «народная стройка», и строились дома их будущими жильцами, по месту основной работы. Домов пять.
Первый – дом художников, ДХ. Художники там и жили и работали – в мастерских. Со всеми вытекающими из них (и мастерских, и художников) последствиями. Самый беспокойный народ – эти художники: то с балконов падают, то наоборот по деревьям лазят. Блядство опять же, не без этого.
Второй – дом сотрудников какого-то технического института. Как раз Л. в нем и жил.
Два других дома – «банщиков», работников банно-прачечного треста, или лиц еврейской наружности. До сих пор слышу крики усатых теток:
Читать дальше