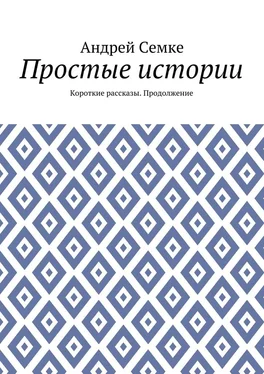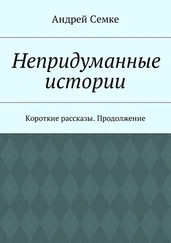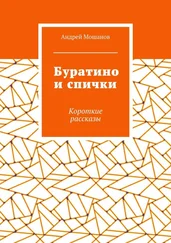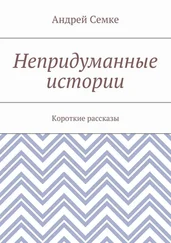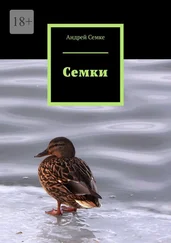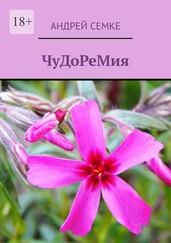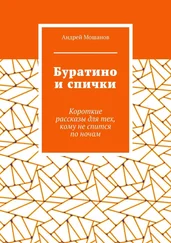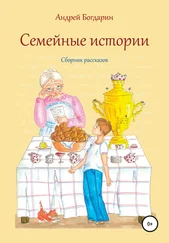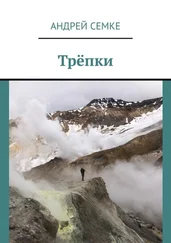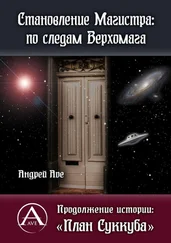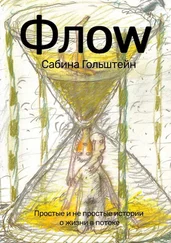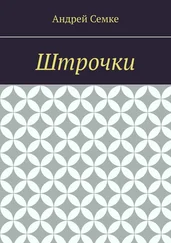Это происходило примерно так.
Галина Семёновна просила прийти отремонтировать после уроков дверь в кабинете литературы и врезать замок, называла фамилии, и мы приходили. Сначала дело. Мы врезали замок, чинили парты, девчонки убирали в шкафах, а потом классный руководитель раздавала нам небольшие листочки, сильно потёртые и помятые, видно читанные, перечитанные, а на них очень мелким почерком написано несколько глав А. Солженицына «Архипелаг Гулаг». И мы группами с девчонками и мальчишками за партами с упоением вчитывались в эти непонятные, не совпадающие с линией партии, и с нашим в тот момент пониманием, полностью меняющие наши взгляд на события страницы. Потом бурно обсуждали… Понравившиеся стихи, учили тут же наизусть…
Никто никогда не предал классного руководителя и не обмолвился, что читал, и у кого брал. В те времена то, что показывала и давала нам читать учительница, было под запретом и, конечно, для всех нас, комсомольцев, чревато. Могло полностью загубить её карьеру и перечеркнуть нашу жизнь, но она не могла по-другому, и мы её в этом полностью поддерживали.
Было всякое… Ругались… Обсуждали массовые молодёжные течения… Слушали на классном часе тяжелый рок… И группу Мираж… Смеялись над своими проделками… Но всегда были под защитой невидимой, крепкой, непробиваемой…
А потом был выпускной экзамен по литературе, не ЕГЭ, а реальные вопросы по билетам. И мы, ученики, большой комиссии, состоящих из учителей школы и представителей гороно, рассказывали о наших любимых поэтах и писателях, читали наизусть стихи, а растрогавшиеся педагоги плакали и просили ещё раз продекламировать Есенина или Бунина, Маяковского или Пастернака. Мы были гордыми и счастливыми за прекрасные оценки наших знаний, но по другому и не могло быть…
Всё это было тридцать лет назад… Мы не виделись всё это время, лишь альбом с выпускными фотографиями, который частенько открывал, напоминал о тех далёких счастливых замечательных временах беззаботной, порою парадоксальной, но очень интересной и насыщенной юношеской жизни.
Не стало лучшего представителя нашего прославленного десятого математического класса 1988 года выпуска.
Уха
Что за уха! Да как жирна:
Как будто янтарем подернулась она.
Потешь же, миленький дружочек!
Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек.
И. А. Крылов, «Демьянова уха»
Ну-ка, скажите, кто из вас не любит наваристую, ароматную уху, пахнущую костерком, отдыхом, хорошим настроением, степными просторами и речными берегами? Уху, в которой заключено всё счастье воскресного семейного дня, утренней рыбалки на берегу реки и прекрасного отдыха на природе в компании с хорошими людьми? Уху, которая переливается янтарно-прозрачными жирными бусинками, очаровывает перламутровым блеском светлого бульона, манит золотом и серебром пойманной своими руками рыбки?
Мало кто знает, что изначально, со времён своего рождения и вплоть до конца восемнадцатого века, за словом «уха» на Руси скрывались все первые блюда. Это было общее название для абсолютно всех супов. Однако со временем в лексиконе под влиянием модных западных, в том числе французских веяний появился бульон, а значение ухи сузилось до обозначения только лишь рыбного первого блюда.
Однако и это еще не вся история. Раньше ухой был только концентрированный рыбный бульон – его варили долго и тщательно, но стремились сохранить всё ценное, что есть в рыбе. Никаких круп и тем более картофеля с морковью в ухе не было – густой насыщенный бульон подавали со свежими мягкими пирожками и расстегаями и обязательно сопровождали рюмкой ледяной водки.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.