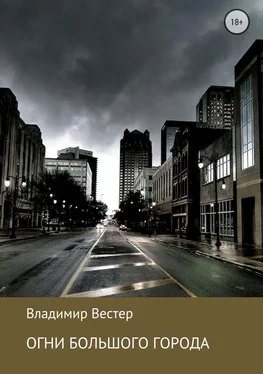Огни большого города
I.
В дни нашей с Александром Петровичем совместной юности доступа к огнестрельному оружию у меня не было. Не было ничего огнестрельного у меня и потом, когда наша совместная юность кончилась, и Александр Петрович стал тем, кем он стал: очень известным Александром Петровичем на крутом взлете его жизненного пути. Ну и слава богу. Зачем такому закадычному другу, как я, боевое военное вооружение? Что делать мне с ним под звуки утренних упражнений по радио?
Растягивал я и свой резиновый эспандер на заре – если у меня получалось его растянуть под те же звуки по радио. Потом – уборная, матерчатая кепка на голове, и мой проезд на городском транспорте через всю столичную Москву. Запомнились облака, дома, граждане, киноафиши, непогашенные фонари на столбах.
Видел я и, обеспокоенного сложившейся производственной ситуацией, бывшего армейского человека в широкой армейской плащ-палатке, которую он никогда не надевал просто так – исключительно по случаю осенней непогоды. Видел я его курящим на крыльце и глядящим в сторону Ярославского перегона; видел я его и с кожаной кобурой на боку и в табачном дыму разглядывающим пожелтевшую фотографию. Убрав в нагрудный карман фотографию, он несколько раз поворачивался вокруг оси и уходил с крыльца, чтобы обосноваться в каптерке на промасленных телогрейках. Обосновавшись, он принимался сильно курить и двумя пальцами очищать плавленый сырок «Дружбу» от фольги.
Александр Петрович, мой давний товарища по старому дому в центре Москвы, никогда не видел этого армейского человека вообще и за этим занятием в частности. В равной степени никогда не видел дружок мой закадычный ни главного геодезиста в табачном дыму, ни бывшего полковника в фуражке, ни вытащенной им из нагрудного кармана пожелтевшей фотографии. Плавленый сырок «Дружбу» он видел, но, в контру бывшему полковнику, ни одного раза, на моей памяти, не очищал его двумя пальцами от фольги, полагая, что не само это тщательное действие, а подробный рассказ о нем исключительно на моей совести.
В армию Александра Петровича несколько раз забирали и всякий раз неудачно. Наверное, ни у кого и в мыслях не было, чтобы его удачно забрать. Никто не мог поручиться, что очередная попытка определить его в состав действующих армейских частей в качестве солдата срочной службы завершится успешно. Каждый раз эти попытки разбивались об его поразительно стойкий пацифизм, об его категорическое нежелание маршировать в сапогах по просторам отчизны. Под талантливые звуки сводного оркестра Московской службы ПВО.
Учился Александр Петрович в пяти-шести трамвайных остановках от нашего дома, в Проезде имени Н.К. Крупской. Высокая чугунная ограда; деревья росли. Двери мощные. Несколько раз был скандально отчислен с кафедры не столько по идеологическим соображениям, а сколько потому, что гипсовый бюст Фридриха Энгельса с верхотуры шкафа наворачивался. По тем же соображениям там же и восстановлен. Стал учиться опять.
Имел он и то, чего не имел я: свою личную власть над временем и пространством, которую он в связи с внезапными приступами скромности никогда не выпячивал. Спустя столько лет это его качество представляется мне таким же натуральным, как умение наблюдать на досуге луну и звездное небо, фонари и прохожих, трамваи и афиши, памятники и бомжей, меня и мою электрическую лампочку в черном патроне, которая висела на потолке, в жилой комнате с одним окном и одним гардеробом.
Много чего иного, но столь же замечательного он имел обыкновение наблюдать в минуты напряженной работы его воображения, включая солнечный свет, приглушённый плотными занавесями в его большой комнате на 6-ом этаже нашего дома и крупную московскую луну, примерно раз в месяц повисавшую над крышами многочисленных столичных зданий. Не вызывает сомнений и его терпкое ощущение многогранности окружающего мира, самых дальних и не самых дальних окраин, спальных районов, учреждений, заводов, фабрик, депо, районного КВД, ближайших улиц и переулков… Мысленно видел он многоликий образ огромного города, подсвеченный сотнями тысяч электрических огней, хотя и не был этот образ для товарища однозначен. Скорее, причудлив и не выстроен до конца.
Слышал он и сухой дробный стук пишущей машинки его матери, работавшей всеми днями и ночами в другой комнате. Тот стук – как эпиграф, забытый за полинялой шторой на деревянных кольцах, но подходящий для моих воспоминаний.
Читать дальше