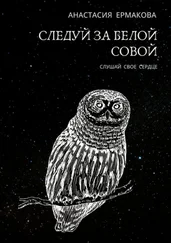Он ловко перелезает через ограду и проворно подсекает упругие травины, приговаривая: «Вот так мы ее… Вот так… Щас…»
– Да что вы, не надо… Я сама.
– Да ладно, – машет он рукой, – чего там…
Мужичок быстро справляется с травяными зарослями. Теперь явственно видны чахлые розовые флоксы и посаженные мною в начале лета бархатцы. Я складываю срубленную траву в стожок, на обратном пути выброшу. Мой помощник садится рядом со мной на скамейку, вытирает тыльной стороной костистой руки влажный лоб, из кармана сальных защитного цвета штанов достает бутылку дешевой водки.
– Помянем? У тебя здесь кто?
– Бабушка.
– У-у-у. А у меня жена. Вон там, – машет он куда-то вбок. – Два года как умерла. Рак. Сорок два всего. Вот так-то. Ну, как говорится… Пусть земля пухом. – Он запрокидывает голову и пьет из горла.
Я смотрю на его загорелую, с подвижным, резко выпирающим кадыком шею, на жилистые руки, крепко и страстно держащие бутыль, будто микрофон, в который выплескивает он свою песнь. Наконец оторвавшись, он извлекает из нагрудного кармана пахнущей потом рубашки складной стаканчик, делает такое движение рукой, будто стряхивает градусник, потом, как фокусник, переворачивает и наливает туда горькую жидкость забвения.
– Давай, – говорит он.
Мне не хочется обидеть его, и я пью. Водка теплая и вязкая, жгучей волной обдает горло. Я морщусь, фыркаю, хватаю из стожка траву, вдыхаю ее свежий, острый аромат. Мужичок добродушно посмеивается. На щеке у него мертвый комар и растертая дорожка крови.
– Че, непривычно без закуси-то? А я привык. Как жены не стало, так и пью. Одиноко… А ты – замужем?
Отмахиваюсь от вечерних, надоедливо пищащих комаров; они уже роем вьются над нами. Становится прохладнее.
– Нет. Сегодня развелась.
– Сегодня? Врешь! – оживляется он.
– Сегодня.
– Ну ты даешь! А че развелись-то? Другую, что ли, нашел?
– Понимаете, нам не о чем стало говорить.
– И все? – подскакивает мужичок. – Только поэтому?
– Только поэтому.
– А сколько прожили-то?
– Пять лет.
– Дети есть?
– Нет. Он не хотел…
– Любила его?
– Да как сказать… Когда жили – думала, что нет. А сейчас… Сейчас даже не знаю. Наверное, любила.
– Да… – ненадолго задумывается он и вдруг находит выход из ситуации. – Знаешь что, за это надо выпить.
На этот раз он сначала наливает мне, вероятно, ввиду небудничности повода, мы чокаемся, и он снова артистично запрокидывает голову и пьет прямо из горла. На этот раз песня длится, по-моему, чуть дольше.
– А я любил свою-то, – говорит он, – и видишь, как обернулось… Болела она долго, целый год почти. Я все ходил к ней в больницу… А потом раз – и не стало. Почему так, а?..
Он жалобно смотрит на меня пьяными глазами. Я думаю, как потом в каком-нибудь своем рассказе опишу его позу и глаза, вопрошающие о том, на что нельзя ответить. Бутылка уже выпита и брошена под ноги. Она лежит этикеткой вверх, и я читаю странное, неуместное название: «Нарком». На фоне красного знамени мужественное лицо человека, похожего на Маяковского, с широко открытым ртом. Я пытаюсь предположить, о чем он говорит. Наверное, что-нибудь о великом деле революции…
Оставив своего случайного собутыльника сидящим на скамейке возле моей бабушки, ухожу. Иду между могил медленно, не торопясь, чувствуя, что как-то просветленно пьяна, читаю имена и даты. Больше всего меня поражает смертельная, в прямом смысле этого слова, практичность. Забота о кусочке земли для будущего мертвого тела, выраженная вот в таких надписях:
Паппе
Игорь Валентинович
(1928–1994)
Паппе
Ольга Сергеевна
(1926–)
От этого делается как-то не по себе.
Перед некоторыми памятниками останавливаюсь всякий раз, когда прохожу мимо. Мама, папа, я – дружная семья. Маме тридцать четыре, папе тридцать семь, и пятилетний смеющийся мальчик. Большой продолговатый камень с неровными краями; здесь всегда много цветов. Все трое умерли в один день. Я пытаюсь сопоставить каменную неподвижность с их внезапно оборвавшимися жизнями, гадаю о причине, кожей ощущая, как тону в болотистом слове судьба, и нет ни одной ветки, за которую можно было бы ухватиться, чтобы не погибнуть. Я почти не испытываю жалости, я не задаю никаких вопросов. Я не знаю, кому их задавать.
В сущности, мне некуда торопиться. Мужа дома нет, и никого нет, и я знаю: как только я войду, пустота накроет меня с головой, и кухонный жесткий свет одиночества остудит горький чай.
Читать дальше