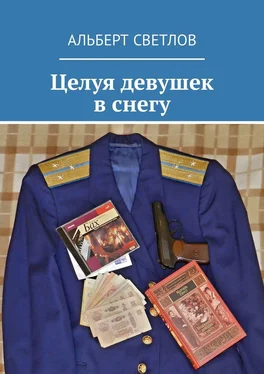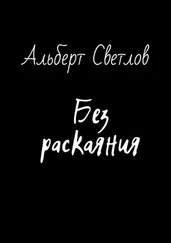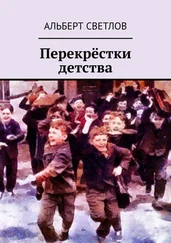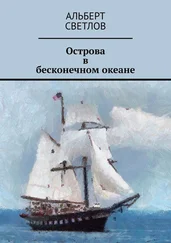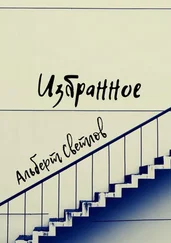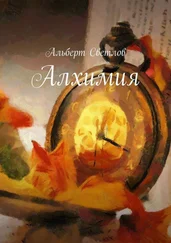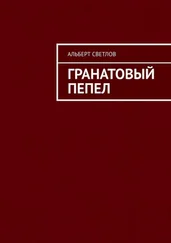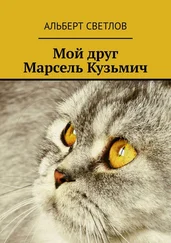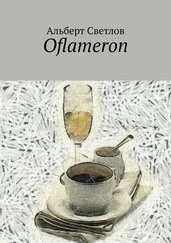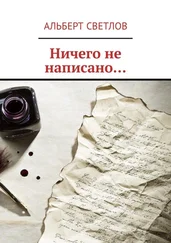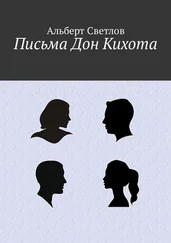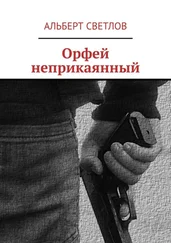– Улица Парковая. Следующая остановка – Луговая.
Луговая являлась той точкой, где мне следовало сходить, и я оторвался от поручня, сделал шаг, остановившись у вагонной двери и опёрся на неё рукой. Конечно, я вроде бы нарушал требование, начертанное белыми полустёршимися трафаретными буквами на стекле: «Не наваливаться на дверь во время движения трамвая», но так делали все, а, если воспринимать намалёванное требование буквально, то я и не наваливался, а всего лишь слегка опирался. Кондуктор, в начале пути получившая с меня плату за проезд, спокойно подрёмывала на сиденье у кабины водителя. Через пару минут дверь вагона должна была с лязгом откатиться вправо и выпустить меня на улицу. Провожая взглядом ползущие за окном тополя с юными, покуда не успевшими покрыться слоем серой пыли, листочками, дорожные столбы, несущие на себе электрические провода, легковушки, обгоняющие наш трамвай, я заметил в стекле двери и отражение мальчика, вновь усевшегося на колени матери, успевшей, пока сынишка поднимал с пола кепчонку и неловко сбивал с неё мусор, поправить свою короткую зелёную юбочку. Мать что—то снова принялась рассказывать ребёнку, но я не разбирал слов, произносимых женщиной, до меня доносился чуть слышно звук её голоса, напоминавший журчание лесного ручейка.
Вместе со мной из трамвая вышли три человека, – два парня лет двадцати, быстрым шагом заспешивших по асфальтированной дорожке вниз улицы, и высокая, длинноволосая, близоруко щурившаяся девушка, подносящая запястье с часиками почти к самому носу. Здесь, на Луговой, с трамвая сходили студенты, предпочитавшие данный, относительно дешёвый, вид городского транспорта. Надо признать, это не лучший вариант выбора пути, ведь отсюда до ВУЗа оставалось пройти около километра.
Перебежав лёгким шагом брусчатку, я обернулся назад, посмотреть, как, кряхтя и постукивая колёсами на стыках рельс, незаметно набирая скорость отъезжает трамвай, увозящий маму и её любознательного, бойкого сынишку. В этом городе меня никто не знал, я тоже не водил знакомство с 99,9% населяющих Тачанск граждан, поэтому и не стеснялся носить очки, но и в них не сумел разглядеть минутных попутчиков, сидевших у широкого окна, выходящего на другую сторону дороги.
Трамвай оставался, хочешь не хочешь, платным транспортом, и деньги с пассажиров взимали исправно. Однако, в резерве находчивых школяров имелся один хитрый способ проехаться до института почти за так, условно—бесплатно. Я имею в виду электричку. Она отправлялась с вокзала в областной центр в 07:31, за полчаса до занятий. Проехать в ней требовалось всего один полустанок, и студенты, пользуясь тем, что контролёры не брались шерстить всех подряд на столь малой дистанции, выстаивали 4 минуты пути в провонявшем дешёвым табаком тамбуре, или занимали самые ближние к раздвижным, хлопающим во время поездки дверям, скамьи.
Вообще—то, у ВУЗа имелся автобус, собиравший учащихся последовательно в трёх разных точках центра города. Маленький, вонючий, холодный, с минимумом мест для сидения. К сожалению, я на него, обычно не успевал.
Мы с товарищами почти не пользовались электричкой ибо, по большей части, просто опаздывали, прибывая на вокзал уже после того, как она покидала перрон. Но находились и те, кто направлялся на учёбу принципиально, исключительно на поезде. Я относился не очень ответственно к данному вопросу, потому, случалось, не успевал на первую часть лекции и дожидался пятиминутной перемены в рекреации. Правда, это было, скорее исключением, нежели правилом. Ко всему прочему, мне и моему новому институтскому другу, Диме Лазаревичу, улыбчивому, никогда не унывающему очкастому крепышу, ставшему, вскоре, одной из звёзд вузовского КВНа, доезжать до места назначения, порою удавалось без пересадки. С той части города, где мы жили, с Кировки, до Лесной ходил прямой трамвай. И если утром, в час пик, получалось чудом втиснуться в его забитое до предела спешащими на работу людьми, нутро, то мы, безмерно довольные сим фактом, благополучно достигали нужной нам остановки, не потратив ни копейки впустую. Правда, у вокзала заранее старались оказаться поближе к одной из дверей, толпа, прорывающаяся в вагон, наглухо запечатывала имеющиеся входы и выходы, и существовала отнюдь не иллюзорная опасность, проскочить не только свою улицу, но и несколько следующих.
Надо сказать, весной и осенью попадать на учёбу казалось не слишком—то и сложным делом. Всё обстояло гораздо печальней зимой. Особенно первой зимой. Зимой, когда перестала существовать великая держава, а экономику молодые реформаторы вогнали в коматозное состояние. Естественно, Тачанск не обошли проблемы, обрушившиеся на население в ту тяжёлую пору. Одной из многих проблем явилась транспортная. Нет, конечно, она не взялась ниоткуда, не являлась этаким невиданным зверем, неожиданно материализовавшимся с началом шоковой терапии. У неё имелись глубокие корни, просто одновременно с крушением Союза, стартовали и массовое обнищание, и деградация государственных предприятий, одномоментно лишённых ассигнований. Поэтому—то транспортный вопрос резко обострился. Сократилось в разы число автобусов, выходящих на линию до Кировки, а число жителей этого спального района, между тем, продолжало увеличиваться. Трамваи не справлялись с перевозкой всей массы людей, особенно в ранние часы. Уехать утром и вернуться в Кировку вечером, стало нереально сложно.
Читать дальше