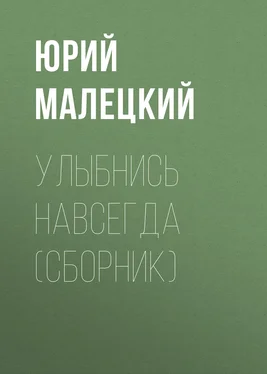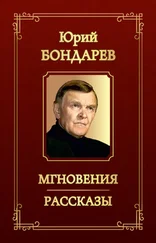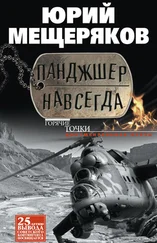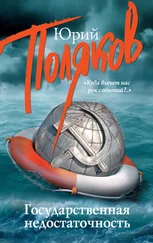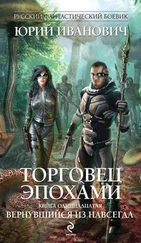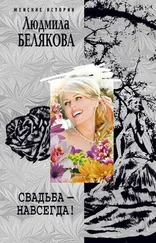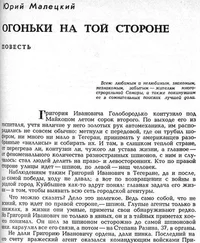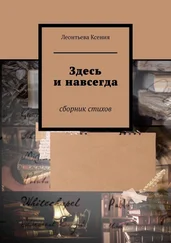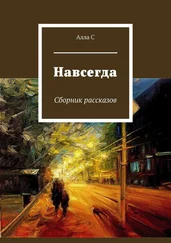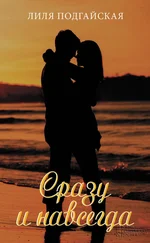А потом окончательно водворились новые венцеки, в дикарской черной коже, и прилично одетому человеку лучше стало не высовывать носа на улицу; но и дома стены больше не помогали, людей уводили из их домов; и некоторые, случалось, возвращались.
Да, оно было ужасным, то время – и оправдать и его, и то, что было после, лет через пятнадцать-двадцать, могло только одно: историческая необходимость. Но ведь она же явила себя, эта необходимость, мы построили первое в истории, могучее социалистическое государство, ликвидировали неравенство, безработицу и безграмотность, истребили оспу, чуму и холеру, дали всем бесплатную медицину и образование, выиграли великую войну и отстроили страну заново… Наконец, что бы ни говорил Марк, мы таки первыми вышли в космос! Как можно перед лицом этой очевидности не то что согласиться с Марком, но – не назвать все это вздором – или хуже – передергиванием и подтасовкой фактов?..
Так они спорили часами; а Софья Ильинична слушала и глядела нехорошо, ревниво, но, будучи женщиной воспитанной, да и сама понимая, что в ее шестьдесят три ревновать смешно, вмешивалась в разговор только чтобы поддержать беседу на доступном ей уровне, сказав: "Все так, но, между нами, метрополитен имени Кагановича – это звучало". Или: "Ты заметила, что крабы исчезли? Как хочешь, а раньше такого безобразия быть не могло". А прощаясь с Галей Абрамовной, нежно поправляла у той на груди бисерную "летучую мышь".
Было, было ей чем занять свое существование; тем более, что тогда у нее уже квартировали Понаровские, лет что-то пять или шесть, пока Семену не дали квартиру от 4ГПЗ, в ДК которого он работал хормейстером. Одна борьба с безалаберностью этой молодой четы чего стоила; и когда Лиля приходила с работы, в ее комнате ее ждали чулки или туфли, торжественно водруженные в центр обеденного стола, или еще какой-нибудь сюрпризец в этом роде.
А еще ведь надо было поддерживать порядок на могиле мужа, а потом и на Зариной могилке, потом и на могиле матери; Зарочке она поставила небольшой гранитный памятник с выбитой на камне надписью, сочиненной ею самой: "Доченька, память о тебе в наших сердцах вечна, как вечна жизнь, безмерно любимая тобою"; а через полгода угол памятника отбили, выкололи глазки на Зариной фотокарточке и нарисовали на памятнике виселицу и на ней шестиконечную звезду. Галя Абрамовна расстроилась, но сочла эту безобразную выходку обыкновенным хулиганством. Она всегда думала и продолжала думать теперь, что с еврейским вопросом в стране на государственном уровне покончено, этого печального наследия царизма больше не существует, бытовой же антисемитизм, может быть, и в самом деле столь же непреходящ, как, например, русское пьянство, но живем же вместе, и трезвые, и пьяные, и ничего, и потом это как к людям отнестись – она, например, никогда не ожидала ни от кого антисемитских выходок – и никто никогда, по крайней мере, в лицо ей не говорил глупых гадостей, даже в злющих очередях военного времени. Но, конечно, есть тип еврея-активиста, правильно она говорит? еще бы нет – всегда и во всех лихорадочно ищущего антисемитов, а кто ищет – тот всегда найдет. Ей было больно, но она спокойно занялась реставрацией памятника, благо имела вторую такую же, любимую фотографию доченьки, и посадила еще незабудки, и ноготки, и две аккуратные синие елочки, чтобы росли и охраняли памятник с двух сторон.
Словом, у нее хватало дел, подобающих человеку в осенне-зимнюю, пенсионную пору жизни. Безусловно, внутренняя картина мира, ориентация в нем сильно отличала Галю Абрамовну от слышащего большинства, восприятие ее, лишенное, подобно немому кино, идущему без аккомпанемента, того ритмического стержня, который не только обеспечивает постоянное напряжение сюжету жизни, но и делает его именно сюжетом, то есть чем-то, протекающим во времени, следующим от чего-то к чему-то, – восприятие ее превращалось, таким образом, в ряд вспыхивающих и гаснущих кадров, так что она перестала ощущать непрерывность и последовательность временного потока, соединяя все впечатления от жизни вневременной, не последовательной связью – то, что было вчера, могло казаться ей более поздним, чем то, что произошло сегодня утром; иногда же все и вообще запутывалось, так как вдруг включившаяся слуховая память могла наложить зримое настоящее на фонограмму прошлого, простейшим примером чего мог служить цокающий копытами трамвай, или солнце, светившее на безоблачном небе под сильный шум ливня и раскаты грома, или дети, беззаботно играющие в песочнице под треск пулемета. А могло быть и так, что вдруг посреди людей на автобусной остановке начинал совершенно вслух звучать ее же собственный голос, каким он был в юности; и странно, что никто в автобусной очереди не оборачивался на этот девичий голос, читающий на выпускном вечере отрывок из "Виктории" Гамсуна. "Зажгли лампу, и мнЂ стало гораздо свЂтлЂе, – почти пел этот голос. – Я лежала в глубокомъ забытьи и снова была далЂко отъ земли. Слава Богу, теперь мнЂ было не такъ страшно, какъ прежде, я даже слышала тихую музыку, и прежде всего не было темно. Я такъ благодарна. Но теперь я больше уже не въ силахъ писать. Прощайте, мой возлюбленный…" Этот голос, и эти слова, и все утраченные ныне в русской орфографии, но все же чуть слышные при чтении глазами, нежные, как выдох, "ять" и "ер" в них…
Читать дальше