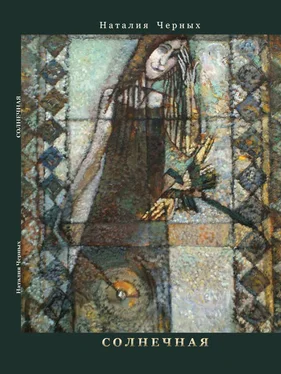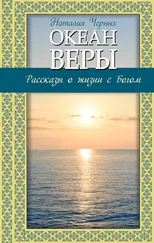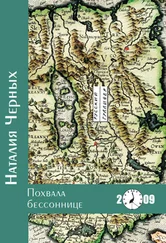Твой профиль белёсый мужской, девятнадцати лет,
русыми локонами…
безысходность, невольная лажа…
– что может быть хуже невольной лажи? –
незнанье вины?
Незнанье вины непростительно! –
с длинным зерном светлых девичьих глаз –
это всё рок-н-ролл, русский, мой – рок-н-ролл? –
профиль тот отвратителен.
(«Последнее письмо Мнемозине»)
Когда избавляются от прежней кожи, вытравляя память, избавляются и от навязчивой персонализации. И, разумеется, не могут избавиться бесследно. Лета и Мнемозина – две равнозначные фигуры в пантеоне автора. Лета зовет оставить всё то, что связано с самостью, с ее мучительным становлением в переполненном Другими человеческом улье. И тогда удается посмотреть на свое «я» новым, равнодушным, исключительно эстетическим взглядом, когда «быть на виду» означает вовсе не словарное «быть на виду у кого-то», а нечто внепсихологическое:
…любимого самозабвенного неба
Быть на виду у такого большого в начале дня солнца:
будто превратилась в горсть пепла, но под покровом – огонь.
Неловко: была – и прошла, опалила, оставила метки.
Теперь на сиденье автобуса
волос улёгся.
Теперь кто-то носит одежду и обувь, за дверь выставленную
в новом пакете.
Кто имя моё назовёт – а не надо бы. Иначе снова приду, как приходят июльские грозы.
Сколько волос уплыло! Как утомительны ливни!
Как тонут автомобили
(«Офелия»)
Как и «ветка винограда на полу», досадный волос «на сиденье автобуса» – непременная дань документализации, инвентаризации опыта «обращения». Без этого доверие высказыванию катастрофически снижается. Доверие – то, что непрестанно удается генерировать этому лаконичному собранию стихотворений. И миссионерство их героини («а мне нужен рот-фронт») принимается без скепсиса, как детское признание, которое всегда – некорректно и в лоб. Потому что эти напряженно ритмизированные, рваные верлибры нам всё о себе рассказали: мы забрались под их блюзовую ритмику в нутро «часового механизма», послушно разглядев вместе с автором «воробьишку в курантах» («Кларнет пространства-времени»), рассмотрели, как «порхает колибри вокруг мобильного телефона» («Колибри»). «И я тоже» – что-то такое рождается от встречи с поэзии «Солнечной»:
И я тоже фрагмент. Как любой пешеход.
(«Заново»)
«Но тебе – говорю (а кому) – дышит море» – такая открытость разговора, реплики которого словно корректируются и обрастают вводными оговорками у нас на глазах, наверное, беспроигрышная позиция сегодня, когда жанр откровения дезавуирован и никто не верит в возможность солилоквиума. Но перед нами – разговор наедине с собой. С неизбежным при этом герметизмом и косноязычием, которое, однако, автор облекает в гуманное для человека две-тысячи-десятых иносказание.
Вера Котелевская
Листья берёзы – огненные языки – и распадается мир:
в каждом ещё не сгоревшем фрагменте – берёзовый лист.
А между ними – единая бездна ещё-не-бытия.
Колышутся листья под солнечным ветром.
Есть или пить – не хочу. Остатки Москвы ютятся в старой квартире,
грезят ремонтом – как и асфальтовый лес,
наступающий на хрупкие старые зданья.
Ветви берёзы созрели для главного праздника.
…между ними – единая тьма,
а Свет отошёл. Остаётся лишь пламя.
Итак, всё горит. Всё очень красиво горит: и дерево это
со всеми его воробьями,
белые свечи под самым окном, и окна напротив, и то, заповедное,
счастливое окошко твоё…
…что за глупость спрашивать – веришь, не веришь.
На такой глубине…
…что говорить – что сказать – как – обуглена.
…И я тоже – фрагмент. Как любой пешеход.
Как будто бы фото моё кружится, ещё не оторвавшись от ветки,
над бездной,
и не будет уже никого, кто вспомнит или стихи почитает,
кто принесёт молока.
Разве ты – вспоминать о тебе.
Пыль на солнце, берёза и кошка.
Всё твоё.
Леплю себя заново. И не могу предсказать,
что получится.
Читать дальше