«…и нет высоты, с которой глядеть,
когда забирает дух:
одна лишь февральская стынь на восток,
на север и запад; и на замок
ненужные зренье и слух
Приметы райской жизни, увы, далеки от блаженства, но оно, возможно, и должно отличаться от растительного прозябания. Пограничный скиф считает наслаждением пронзительный ветер, дующий ему в лицо, когда «зияние радует глаз изгибами линий». Я уже обмолвился, что поэт, пишущий о предмете своего обожания (и подражания), обречен на самовыражение, поэтому осмелюсь продолжить немного измененной цитатой. «Неколебимость антисистемных убеждений Вишневецкого, его скромный, хотя, временами, и трагический, патриотизм, не афишируемая, но твёрдая вера, настойчивость и, конечно, страстность, сразу заметная в личном общении и во многом, им написанном, стали персональным ответом поэта на вызов тех условий, в которых он вырастал. Чисто идеологически он не вписывается до конца ни в одну из господствующих тенденций, будучи ориентированным на «ту подлинную реальность, которая противостоит духу «ненавистного разделения», которая умножает и углубляет слой святости в русской жизни вот уже тысячу лет и которая… никак не отменяет и не становится поперёк святости других народов».
В конце книги стоит очерк памяти Иосифа Бродского.
Мне жаль, что Игорь не преодолел некоторой предвзятости (стеснительности?), из-за которых его встреча с Бродским не состоялась. Круг интересов Иосифа Александровича выходил далеко за пределы авторского «я» поэта, распространяясь от вещей анекдотически бытовых до возвышенно теологических. Общение с ним могло бы «загрузить» человека, связавшего свою судьбу с литературой, на всю жизнь. Игорь предпочел остаться «капитаном ирреальной субмарины», как назвал его виргинский друг в одном из стихотворений этого сборника, и, в конце концов, лег на дно, чтобы всплывать иногда в разных частях мирового океана наподобие принца Даккара, возглавляющего восстание сипаев против британских колонизаторов. Несмотря на сюжетную законченность книг Жюля Верна, судьба капитана Немо до конца не описана, оставляя, таким образом, поле для дальнейших интерпретаций и, несомненно, заслуживает увлекательного продолжения.
Вадим Месяц июнь 2008, Новодарьино
cтихотворения 1990 – 2007
«Твои буквы азъ и глаголь…»
Твои буквы азъ и глаголь
барабанной дробью в ушах
заметает сухая соль
на покатых птичьих горах,
где с тобой мы бродили два
долгих года тому назад.
Память входит в свои права
и наводит прицельный взгляд
на ступенчатый спуск к воде.
Там в иное время, в ином
колесе событий – но где? –
нас трепал листоливенный гром.
А теперь только белый плат
всюду, сколько охватит глаз,
да моргающий птичий свет
от реки, что летит дымясь.
В жизни другой я был бы наверное волком.
Пальто прирастает ко мне точно тканая шкура.
Сейчас на дворе время ржави,
и сыростью тянет из рек,
погребённых под Городом.
Зелёные лиры деревьев
приветствуют нас,
сам-друг с серой тенью
спускающихся по кольцу
потеплевших бульваров.
Зияние света радует глаз
изгибами линий.
В ночь, когда ты уехала, выпал снег,
наполняя ровным искреньем
покой.
Внутренний свет становится внешним,
набухая в буграх позвонков,
сквозь потёртости щёк и лодыжек.
Воздух оплотневает.
Лиры деревьев
в медной ржавчине – всё не слетевшей.
Твоя речь ещё на губах,
перебивчатый синтаксис – в сердце,
в зренье – селезни дымчатых масс
молока и лазури: как
мне укрыться в такой снегопад?
Хоть закусывай до крови губы
или, встав на задние, вой
на полдневное солнце.
Впрочем, я не волк – лишь стрелок
среди дымчатых серых курганов
и легко затеряюсь под их
«Как я боялся – о! – окаменеть…»
Как я боялся – о! – окаменеть,
стать формою, которой бы дивились,
а вышло: тени зримые смесились,
и немота вошла в меня на треть.
Без имени, как ветер в тополях
и лепеты взвиваемого праха,
я горло зажимаю не от взмаха
крушащего, а от того, что взмах
меня давно уж выбросил туда,
где дышат существа иного толка,
и только мысль, как лёгкая иголка,
латая жизнь, снуёт туда-сюда.
Читать дальше


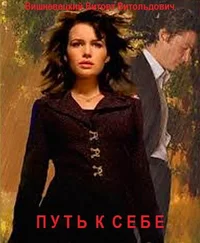





![Игорь Вишневецкий - Неизбирательное сродство [сборник]](/books/427467/igor-vishneveckij-neizbiratelnoe-srodstvo-sborni-thumb.webp)


