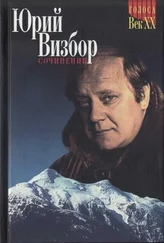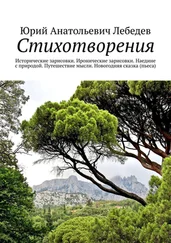Меж безднами двумя
то лодка, то ресница
качается, стоймя
стоит себе – и длится…
Утешь меня, утешь,
глагол, своим недугом —
своим зияньем меж
значением и звуком.
«Запомнишь ли – не мысль, не звук…»
Запомнишь ли – не мысль, не звук,
не губ гончарную работу,
а исчезающую вдруг
земную ноту.
Чтоб там, где смерть и рождество
ещё в одном – в одном сосуде,
собой расширить вещество,
мерцающее в каждом чуде.
И времени знакомый хруст
не помешает за плечами
услышать полное молчанье
из первых уст.
«Кто-то спросил: – Ну, как?..»
Кто-то спросил: – Ну, как? —
ночью в пустом дому.
Я говорю: – Никак, —
этому никому.
Поздно. Я спать пошёл.
Просто оставлю свет.
И положу на стол
парочку сигарет.
Переведи меня
с дождя на детский лепет
усилием огня,
душа, сомненье, трепет, —
коль свет на том – другой,
чем свет на этом свете:
не вольтовой дугой
он порождён, а дети
его, во сне взлетев,
вынашивают в синий —
мышлением дерев —
в невероятный иней,
иной в конце концов:
так речь врезает в строфы
и мысли мертвецов,
и голоса голгофы.
Дождик чует наготу
женщин, улиц и растений,
словно гений, просто гений,
пишет воду на мосту:
пишет, над теченьем стоя,
пишет время золотое
так, что течь невмоготу.
«Плачет коза, поднимаясь в горку…»
Плачет коза, поднимаясь в горку.
Кто-то затеял в лесу уборку.
Осень. В отхожее сыплют хлорку,
чтобы осело. Курю махорку.
Вот на окошке заело шторку.
Стало светлее. Пусть будет так.
Это, наверно, хороший знак:
коршун выписывает восьмёрку…
Ходит музыка по коже.
Серебрится вдоль дорог
что-то медленное. Боже
мой, я тоже одинок.
Ничего. Я умираю.
И, с закушенной губой,
непогода пахнет с краю
азиатского – тобой.
Ты без музыки танцуешь,
смотришь небу прямо в рот.
Трижды воздух поцелуешь —
и собака подойдёт.
«Эта собака не для езды…»
Эта собака не для езды.
Имя собаки – имя звезды.
Имя собаки – имя цветка
цвета любви и её языка:
Словно от зноя зевнула земля.
Или собака. Собака моя.
Имя собаки – выдох и вдох.
Отчество – Бог.
Позолоченная стружка.
Ветром выструганный лес.
Заведёт земная вьюшка
злую вытяжку небес.
Чёрный дрозд летит по краю
неба, белого вдали.
Отвыкаю, отвыкаю,
отвыкаю от земли.
Эти пальцы, веки эти
онемели в Рождество.
Нет на том, соседнем, свете —
кроме снега – ничего.
Помнят ли при тёмном свете,
как зима вползает в лес, —
птицы, ангелы и дети…
Население небес.
«Медленно, медленно ваза…»
Медленно, медленно ваза,
выпав из левого глаза,
бьётся. На звук и на свет
вся распадается. Нет,
и на цветы, и на воду,
на пустоту и свободу
полного небытия…
«Что-то ещё я хотел… Никак…»
Что-то ещё я хотел… Никак.
Впрочем, уже не важно.
Знаешь, душа возмужала так,
что умирать не страшно.
Стужа слепила пяток ресниц
в свет, в ледяную ржавость,
чтоб не забыть перезябших птиц,
чтобы слеза держалась.
«Мороз проницаем и розов…»
Мороз проницаем и розов,
но горек расплывчатый вид,
где призрак семи паровозов
дымит в деревеньке, дымит.
И некому утром приехать,
и дров остаётся в обрез,
чтоб выдуть алмазную перхоть
из оцепеневших небес.
И водку ласкают селяне,
и стужей душа восстаёт,
когда переходит сиянье
в зияние снежных высот.
И зябнет у жизни запястье —
до смерти: в канун Рождества
сшибаются страшные части
божественного вещества.
И смерть наполняет значеньем
всё, что не уносит с собой:
то музыку точит мученьем,
то бред возвышает мольбой.
Читать дальше