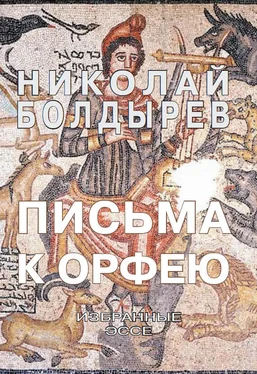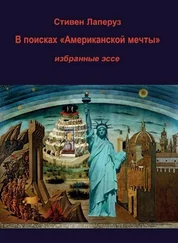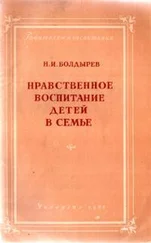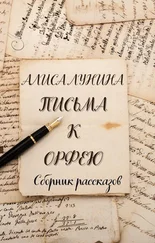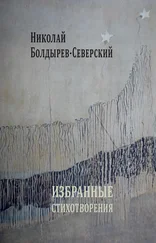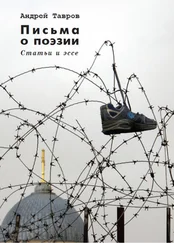…Однажды, ранним утром, и это был не самый легкий период моей жизни и не самое счастливое утро, я проснулся на сеновале, куда меня определила одна моя знакомая, в гости к которой я приехал на пару дней. Как я уже сказал, чувствовал я себя неважно, будущее казалось мрачным, перспективы удручающими. К тому же я продрог, ночь была холодной, а одеяло недостаточно толстым. Внизу мычали коровы и блеяли козы. Надо было вставать, идти навстречу новому дню, но мне не хотелось двигаться – какое уж тут вдохновение жизни, одна только тоска. Я залез в рюкзак и нащупал там книжку, которую кинул туда, чтобы почитать по дороге. Это было переиздание жизнеописаний знаменитых людей издательства Павленкова. Одна из биографий была посвящена Томасу Карлейлю, не особо знакомому мне персонажу. Я открыл наугад и стал читать то, что было написано мелким шрифтом – послесловие к жизнеописанию Карлейля. По мере чтения я начал ощущать, что написанное трогает меня и призывает продолжать чтение, словно бы автор был родным незнакомцем, которого тревожили и вдохновляли те же самые идеи, которые тревожили и вдохновляли меня. Вот именно – я вошел в ощущение глубинного родства в том самом поле, которое, вероятно, оказалось общим не только для нас с Томасом и неизвестным автором послесловия, но скорее всего – родиной всех людей и деревьев на свете. Я прочитал текст до конца, не очень понимая большинство слов, задержавшись на одном или двух абзацах, которые меня задержали. А вернее говоря, таинственным образом отправили в те внутренние края моей жизни, откуда мы все родом, в те самые, которые дзэнский мастер Банкэй называл человеческим лицом, данным до рождения, а другой Мастер – Царством Небесным.
Через некоторое время я оторвался от книжки. На улице – было небо. И в нем плыли облака. Там, за купами деревьев угадывалась речка, куда стоило сходить и окунуться. Только что бывшее серым пространство теперь непонятно каким образом было пронизано веществом жизни. И я уже догадывался, откуда оно взялось. Нет, оно пришло не от автора послесловия. И, конечно же, не от меня. Но от нашего с ним контакта. Потому что именно эта встреча, которая благодаря тексту, данному мелким шрифтом, стала реальной, – и преобразила мир. Мы ничего не знали друг о друге. Но это оказалось неважно… для чудес это не преграда.
Прежде, чем отправиться купаться, я взглянул на имя автора чудного эссе. Там стояло мелким шрифтом – Н. Болдырев. – Надо запомнить, – сказал я себе. И я запомнил.
Андрей Тавров
1
Кое-кто полагает, что дзэн (чань) – это модная интеллектуальная вещица, к которой нельзя не относиться с некоторой долей иронии как к моде позапрошлого сезона. Тем более что сегодня, в перегруженном ментальными тренингами мире, иронически реагировать в том числе и на дзэн стало чуть ли не признаком хорошего тона. Кто только ни иронизирует или отмалчивается: от Бориса Гребенщикова и питерских митьков 1 1 Характерная миниатюра в «Саде камней» В. Шинкарева: «Максим стоял с поднятым пальцем. Федор ржал. Так оба овладели дзэн-буддизмом».
до иных (немногих) солидных мэтров и романистов, пользующихся дзэн как прекрасным утренне-вечерним гигиеническим средством, а также как изысканной поэтической методикой, но избегающих малейших намеков на сам источник. Впрочем, это легко понять: как же иначе защитить хрупкую субстанцию подлинного дзэн от опошления, от сегодняшнего убийственно-массового стремления всё потрогать, захватать руками…
И все же подлинный дзэн не может быть модной вещицей, поскольку не может быть ни предметом моды, ни предметом потребления. Дзэн вневременен: истоки этого учения (впрочем, разве это учение, доктрина, а не самодвижущаяся сущность вещей) уходят в неизреченную глубину даже не истории, а времени. Истиной дзэн нельзя обладать, сколько бы ни читать о нем книг. Нельзя сказать: я знаю дзэн; но можно пребывать в дзэн, и это не зависит от количества накопленных о нем фактов. Дзэн неуловим. Сформулировать его в понятиях невозможно: дзэн внепонятиен. Для философии в нем слишком много искусства, для искусства в нем слишком много философии. (Впрочем, может быть следовало бы говорить не о философии, а о метафизике). Дзэн существует в промежутках между словами о нем, в паузах между мыслями о нем, он в том глубочайшем молчании, когда тишина внутри человека вдруг соединяет его со стихиями и вещами вокруг. Как писал поэт:
Читать дальше