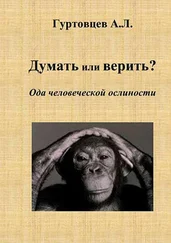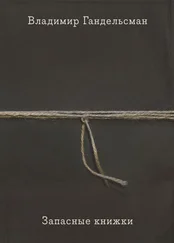Всё её захочет, даже изгородь,
или столб фонарный, мы подростками
за деревьями стоймя стоим, на исповедь
пригодится похоть с мокрыми отростками.
Платье к бёдрам липнет – что ни шаг её.
Шепелявая старуха, шаркая,
из дому напротив выйдет, шавкою
взбеленится, «сука, – шамкнет, – сука жаркая!».
Много я не видел, но десятка два
видел, под её порою окнами
ночью прячась, я рыдал от сладкого
шёпота их, стона, счастья потного.
Вот чего не помню – осуждения.
Только взрослый в зависти обрушится
на другого, потому что где не я,
думает, там мерзость обнаружится.
В ней любовь была. Но как-то страннику
говорит: «Пойдём. Чем здесь ворочаться —
лучше дома. Я люблю тебя. А раненько
поутру уйдёшь, хоть не захочется».
Я не понял слов его: мол, опыту
не дано любовь узнать – дано проточному
воздуху, а ты, мол, в землю вкопана
не любовью – жалостью к непрочному.
А потом она исчезла. Господи,
да и мы на все четыре стороны
разбрелись, на все четыре стороны,
и ни исповеди, ни любви, ни жалости.
1
Две руки, как две реки,
так ребёнка обнимают,
словно бы в него впадают.
Очертания легки.
Лишь склонённость головы
над припухлостью младенца —
розовеет остров тельца
в складках тёмной синевы.
В детских ручках виноград,
миг себя сиюминутней,
два фруктовых среза – лютни
золотистых ангелят.
Утро раннее двоих
флорентийское находит,
виноград ещё не бродит
уксусом у губ Твоих.
Живописец, ты мне друг?
Не отнимешь винограда? —
и со дна всплывает взгляда
испытующий испуг.
2
Тук-тук-тук, молоток-молоточек,
чья-то белая держит платок,
кровь из трёх кровоточащих точек
размотает Его, как моток,
тук-тук-тук входит нехотя в мякоть,
в брус зато хорошо, с вкуснотой,
всё увидеть, что есть, и оплакать
под восставшей Его высотой,
чей-то профиль горит в капюшоне,
под ребром, чуть колеблясь, копьё
застывает в заколотом стоне,
и чернеет на бёдрах тряпьё,
жизнь уходит, в себя удаляясь,
и, вертясь, как в воронке, за ней
исчезает, вином утоляясь,
многоротое счастье людей,
только что ещё конская грива
развевалась, на солнце блестя,
а теперь и она некрасива,
праздник кончен, тоскует дитя.
Что ещё так может длиться,
ни на чём держась, держаться?
Тела кровная теплица,
я хотел тебя дождаться,
чтоб теперь, когда устало
ты и мышцею не двинуть,
мне безмерных сил достало
самого себя покинуть.
Как дерево, стоящее поодаль,
как в неподвижном дереве укор
тебе (твоя отвязанность – свобода ль?)
читается (не слишком ли ты скор?),
как почерк, что, летя во весь опор,
встал на дыбы, возницей остановлен,
на вдохе, в закипании кровей,
на поле битвы-графики ветвей,
как сеть, когда, казалось бы, отловлен,
но выпущен на волю ветер (вей!),
как дерево, как будто это снимок
извилин Бога, дерево, во всём
молчащем потрясении своём,
как замысел, который насмерть вымок,
промок, пропах землёй, как птичий дом
со взрывом стаи глаз, как разоренье
простора, с наведённым на него
стволом, как изумительное зренье,
как первый и последний день творенья,
когда не надо больше ничего.
«Тридцать первого утром…»
Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем нутром
и увидеть, как сверкает ярко та
ёлочная, увидеть
сквозь ещё полумрак теней,
о, пижаму фланелевую надеть,
подоконник растений
с тянущимся сквозь побелку
рамы сквозняком зимы,
радоваться позже взбитому белку,
звуку с кухни, запаху невыразимо,
гарь побелки между рам пою,
невысокую арену света,
и волной бегущей голубою
пустоту преобладанья снега,
я газетой пальцы оберну
ног от холода в коньках,
иней матовости достоверный,
острые порезы лезвий тонких,
о, полуденные дня длинноты,
ноты, ноты, воробьи,
реостат воздушной темноты,
позолоты на ветвях междуусобье,
канители, серебристого дождя,
серпантинные спирали,
птиц бумажные на ёлке тождества
грусти в будущей дали,
Читать дальше