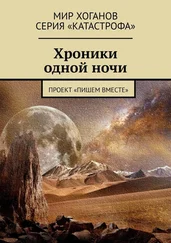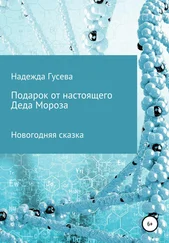– Ты ничего не ешь.
– Сколько можно? Ступай, ступай.
Люди засыпают. Я жду. Мы ждём. Макарушка нервно топчется у двери – то снимает, то надевает шапку, шевелит детскими розовыми пальцами. Забелин и Парин, оба крупные, угрюмые, с каменными обросшими лицами землепашцев, убирают со столов. Зачем они убирают? Кому нужен сейчас порядок? Дядя Саша пошёл угощать. Уже в третий раз. Его долго нет.
Я жду. По ногам тянет холодом. Спите. Песен больше нет. Курт блаженно застывает с куском недоеденного мяса и открытым ртом. Йозеф роняет голову на руки и закрывает глаза.
Спите. Никто не пойдёт по моей земле. Никто из вас больше никого не убьёт.
Однажды вы взяли и убили меня. Я зажмуриваюсь и считаю до десяти.
– Ну, угостил. Всем досталося.
Дядя Саша незаметно является из тьмы, и я вздрагиваю.
– Как они?
– Спят, куда им… Пойду-ка, налью. Эдакое творим, прости Господи. Надо бы всё, что есть хорошего, вынести.
– Нет.
– Чего – "нет"? Тут, мила моя, добра-то! Сапоги хоть снять…
– Нет!
– А! Дело ваше. Вот я хоть иконки вынесу, старухам раздам.
Вместе с Забелиным и Париным он выносит иконы и ставит на запорошенный снегом двор, к стене каменной кладовой. Все святые черны, бородаты и тонкоруки – куда им помогать человеку! Они стоят странным болезненным сборищем и смотрят из-под тяжёлых век печальными смиренными глазами. А один, в коричневой прокопчённой хламиде, поднял чёрную руку и будто грозит мне из тусклого прямоугольника золочёного оклада.
Жутко, пьяно, тошно…
Я жду. Никто не поднимает головы. По двору кто-то снуёт – незаметные тени в осенней мгле.
Макарушка машет руками. Он совсем молодой, контуженый, но был сущим дурачком и до того, как его откопали из воронки.
– Макарушка, дай огня. – говорю я.
– Ой! – дёргается он тощим нескладным телом.
– Спички, говорю, давай.
Подросток насупливается и протягивает мне коробок. Дядя Саша является с ковшом керосина и брызгает на углы. Я несу из подсобки церковные книги, рву их и бросаю на пол. Старая бумага рвётся мягко, покорно, без хруста. Парин, тяжело ступая, несёт связку соломы. Мужики переговариваются осторожно и с оглядкой.
– Вот проснутся, а как – если живые?
– Да ничё уж не живые… вон, гляди-ка…`
– Ох, как-то это…
– Да враг… его хоть этак, хоть так.
– Точно ли спят?
– Дак смотри, что дрова. Ничё.
Я зажигаю спичку. Оранжевый огонёк горит ласково и маняще.
– Э, девушка, дай-ка мне. – говорит дядя Саша.
– Нет, сама.
– Не женское дело. Дай я.
– Нет!
Огонёк прописывает в воздухе мягкую дугу, падает в лужу керосина, счастливо вздыхает и разливается по полу рыжим ковром. И тут же – гудит, трещит, взвивается, будто живое – рыжими волосами, вверх, вверх, легко… По сухому дереву, по рушникам, по одежде спящих…
– Ох ты, занялось-то! – восхищается Забелин.
Я смотрю в открытую дверь, заворожённая красотой содеянного, пьяная и спокойная.
– Пошли, ребята, чего… Воронова, эй!
– Да бери её под мышку, не видишь, еле на ногах!
– Ада Юревна!
– Воронова!
– Жалет, видать… своего-то.
Я разворачиваюсь и говорю долгим слипшимся матом. Забелин ржёт басом, но отступает.
Чёрная старуха визгливо и громко молится у забора. Во тьме воет собака. Макарушка мечется туда-сюда и высоко вскрикивает.
Проём двери как врата в сияющий мир – шагнуть и слиться, расплавиться, освободиться, уйти – навсегда. Это красиво. Как же это красиво! Я смотрю и никуда не хочу уходить.
– Аааааа!
Дикий вопль вдруг вылетает из самого пекла. Я устремляю взгляд туда, где бьётся пламя – оранжевое и золотое. Взметнулись руки, кто-то идёт из огня прямо на меня.
– Ааа! Ааааа!
И я вижу Йозефа. Пламя бушует вокруг. Йозеф начинает неистово плясать на одном месте. Его крик больше не слышен за сухим нарастающим треском, но я вижу – он разевает рот и, кажется, смотрит на меня, и протягивает чёрные руки…
Дикая пляска приостанавливается. Он делает ко мне шаг.
– Нет! – ору я.
Я не верю. Этого не может быть. Я ведь проверяла! Чёрный Йозеф шагает ещё и падает лицом в пламя.
– Неет!
Ноги подкашиваются, я сажусь на землю, на притоптанный снег. Кто-то сгребает меня в охапку и тащит на плече как куль. Я поднимаю голову и вижу, как из огня поднимается одна рука, растопыривает пальцы и застывает – словно зовёт к себе.
Меня колотит, тело выгибает дугой.
– Нееет!
– На снег её, на снег. Воды дай!
– Огнище-то, чёрт! Издалека увидят, будь он неладен. Бежать надо. Машину заводи!
Читать дальше