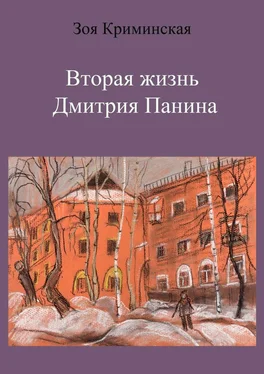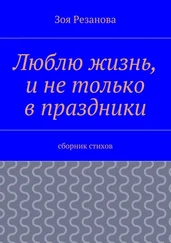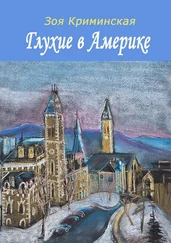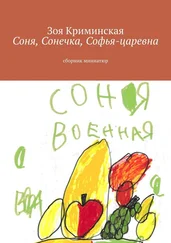Сейчас он точно знал первое, предполагал, что лежит в психиатрической больнице, но как он сюда попал, вспомнить не мог. Он побродил по своему недавнему, покрытому густой пеленой непроницаемого тумана прошлому, вспомнил черную кошку, и осторожно, не отрывая головы от подушки, оглядел палату: кошки не было.
Как ни мало заметно было движение его глаз и головы, кто-то уловил это, и к кровати подошел немолодой, взъерошенный человек. Дима, напрягаясь, вглядывался, потом спросил:
– Это ты чесал мне нос в прошлый раз?
Мужчина, теперь всплыла и его фамилия, Кузьмичев, кивнул, заулыбался и бросил в сторону неясных теней в глубине палаты:
– Гляди-ка, очнулся и даже что-то вспоминать начал.
– Дозы уменьшили, вот и очнулся, – отозвалась одна из теней. Голос был молодой, но хриплый.
– Давно я здесь? – спросил Дима.
– Да … – Кузьмичев почесал в затылке, вспоминая, – дней пять будет…
– Не, не будет, сегодня четвертый, – опять вмешивался кто-то невидимый.
Дима некоторое время напряженно смотрел в потолок, стараясь вспомнить что-то из того, что происходило четыре дня назад, а не вчера, как он предполагал, не вспомнил ничего, кроме того, что потолок этот он уже видел, и закрыл глаза.
Ему снилась река, крутой глинистый обрыв на противоположной стороне, женские ноги идут по песку, оставляя округлые неглубокие вмятины. Ноги подходят близко, он видит светлые выгоревшие волоски, идущие от щиколотки и выше. Он лежит, уткнувшись носом в песок, не поднимает головы, но знает, кто стоит возле него.
Он предчувствует хороший светлый сон, ощущает мягкость губ, нежность кожи на девичьей шее, но внезапно всё меняется, он на другом, высоком берегу, а Лида по-прежнему стоит там, внизу, на песке, он тянется к ней, ноги скользят по вязкой глине, он беспомощно взмахивает руками, срывается с обрыва и падает. Он падает, падает, никак не может достичь воды, несущей прохладу. Он надеется услышать всплеск от падения тела в воду, но его нет и нет. Падение мучительно, длительно, начинается звон в ушах. Панин начинает стонать и метаться по постели, и просыпается.
За окном смеркалось, надвигались сумерки, самое тяжелое время суток для больных. Безумие, прятавшееся от дневного света, от солнца, от каждодневного распорядка – подъем, умывание, завтрак, отдых, обед, уколы, таблетки, затаившееся в углах комнаты, – теперь, на закате дня, выползало, заполняло пространство палаты и начинало свое наступление на людей с последними лучами солнца.
Беспокойство охватывало пребывающих в замкнутых стенах больничной палаты, страх глазел из-под кроватей, выглядывал из серой тени под подоконником, протягивал длинные когтистые руки на гранях сумеречной серости и золотистого круга от маленькой электрической лампочки на потолке.
Кто-то прятался в тумбочке, и за тумбочкой тоже, и разговоры замолкали, каждый оказывался предоставленным самому себе, своему страху, и именно в такую пору, испытывая необъяснимую тревогу, спустя почти две недели после своего первого пробуждения в палате, Дима вдруг отчетливо вспомнил всё то, что привело его сюда.
Вспомнив, он испытал и стыд, и облегчение одновременно, ничего страшного он не совершил, и кровь, алым маревом закрывавшая ему глаза все последние дни, с липучим, тошнотворным, не выветривавшимся из памяти запахом, была его собственная.
Дима открыл глаза, непослушными руками долго теребил пуговки у рукава рубашки, не попадая пальцами на прохладные пластмассовые кружки́, и пока он старался это сделать, он понял, что полное отсутствие координации связано с лекарствами, которые ему колют.
Расстегнув рукав, он осторожно закатал его и увидел на левой руке, чуть ниже локтевого сгиба приклеенный на марлю лейкопластырь, не столько увидел, сколько нашарил.
Обнаруженная на руке рана подтверждала его воспоминания, и он обрадовался и тому, что никому не причинил зла, кроме самого себя, и тому, что память к нему постепенно возвращалась. Когтистое безумие перестало тянуть к нему свои цепкие лапы и на весь вечер спряталось за тумбочку.
Виолетта почувствовала Димкино отчуждение после его возвращения из родного города, но в своей самоуверенности неотразимой девушки и богатой невесты не придала этому значения, не почувствовала соперницы, а приписала его обычной вечной рассеянности и патологической застенчивости своего друга. Возможно, она хитрила сама с собой, заведомо считая, что того, что не произнеслось вслух, как бы и не существует, не существует, во всяком случае, в той реальности, в которой пребывала она, Виолетта, со своей любовью к Дмитрию, талантливому парню, которому уготована большая будущность, а вместе с ним и ей, Виолетте.
Читать дальше