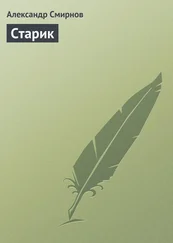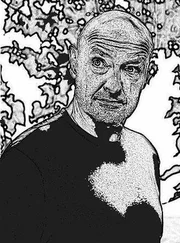После чего я услышал их рассказ о побеге из Одессы и возвращении в нее. До сих пор не знаю, что профессору нравилось больше: устроившись в кресле, поглаживать лежащего на его коленях Рудика или разговаривать со мной.
В моих глазах его квартира была классическим местом жительства настоящего старорежимного профессора, с одной оговоркой – кабинет, спальня и гостиная помещались в одной комнате.
– Сколько книг, – я с восхищением кивнул на высокие, старинные из красного дерева полки до потолка.
– Представьте, остались от родителей. Спасибо соседям, сберегли. Этим полкам сам старик Маршак завидовал!
Я читал на потертых корешках имена авторов: Семен Рабинович, А. М. Федоров, Семен Юшкевич, Влас Дорошевич.
– Даже не слышал о таких, – сказал я.
– Ну, молодой человек, вы, наверное, думаете, что одесская литература началась с Бабеля, а до него здесь и трава не росла?
– Я никогда не думал об этом, – признался я.
– А он думал. Читал и думал. И «Танах», и «Милого друга», и «Леона Дрея».
– Что это – «Леон Дрей»?
Профессор смерил меня своим одним глазом и сказал:
– Я же вам говорю: это что – образование? Это – смитте! «Леон Дрей» – русский бестселлер начала ХХ века. А его автор – наш одессит Семен Юшкевич – самый высокооплачиваемый автор того времени. И Юшкевич, и Бабель были страшными франкоманами. Юшкевич учился в Сорбонне: французский знал, как родной. И Бабель, кстати, свои первые рассказы писал по-французски.
– Откуда вы знаете?
– Откуда? Представьте, от него самого! Он сидел напротив меня, как вы сейчас, и мы с ним говорили о жизни на чистом французском языке.
– Вы были знакомы с Бабелем?!
– Через первого мужа Даши. Представьте, они служили с ним в одном ведомстве.
От него Бабель узнал о товарище жены, который пишет историю евреев.
– Он пришел ко мне на следующий день. Бабель очень любил приезжать в Одессу. Он ходил по городу, к знакомым, в суды, женские консультации и нащупывал, вынюхивал материал для своих литых, плотных рассказов, где все слова знали свой особый порядок. Как он мог не заинтересоваться, когда ему сказали, что я изучаю еврейскую историю и роль евреев в Запорожской Сечи! Расспрашивал, как воспринимали казачество окружающие этносы. Для нас-то они герои вольной степи, а по большому счету – обычные налетчики. Но эмоционально я оказался ему мало интересен. Молодой, пугливый «нудник». Он спросил почему бы мне не написать о роли евреев, например, в Гражданской войне? Я ответил, a зачем историку интересоваться тем, что происходит сейчас. Какой исторический интерес это может иметь? Что это может изменить? Зачем это нужно в современном обществе?
– Xм… наверное так сейчас удобнее. Зачем это нужно в современном обществе? – медленно повторил мои слова Бабель. – Осторожность и беспринципность ради собственного спасения? Хотя кто знает? Огорчить они могут всякого, – задумчиво сказал Бабель.
– Мы поговорили еще чуток о еврейском театре и поэзии и разошлись.
– А как был его французский?
– Если я вам скажу, что чуть-чуть лучше моего русского, то это не будет сильным преувеличением.
– Что вы имеете в виду?
– Видите ли, молодой человек, было время, когда в каждом приличном доме ребенка воспитывал настоящий француз. А если жена не возражала, то и француженка. Так было в доме моих родителей и так было в доме Бабелей. Поэтому приличные дети говорили по-французски без акцента. Что до русского, то родители считали, что родной язык войдет в ребенка сам. Но, скажите мне, что могло войти в ребенка в Одессе? Вот так мы и говорим. Но Бабелю это нравилось. Как он говорил: «Колорит – это то, что нас отличает, и это надо беречь».
Дарья Николаевна принесла с кухни поднос с чайником и чашками. Комната наполнилась ароматом свежего печенья. Мы сели к столу; она приняла Рудика как эстафету и, устроившись с ним в кресле мужа, слушала нас.
Профессор, прикрывая правый глаз и громко втягивая чай, спросил:
– Так вы – любитель Бабеля?
– Конечно! – с энтузиазмом ответил я.
– И что вам у него нравится?
– «Король», – ответил я без запинки. – «Как это делалось в Одессе».
– Вам нравится этот кукольный театр? Вам нравятся эти бандиты? В жизни от таких хочется держаться подальше. Это что, люди? Это же смитте! Прочтите лучше «Историю моей голубятни». Это рассказ.
Сделав еще глоток чаю, он вдруг по-совиному открыл правый глаз и, глядя куда-то в пустоту перед собой, заговорил с неожиданной горечью в голосе: «Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний не залепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен».
Читать дальше