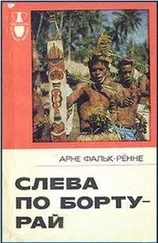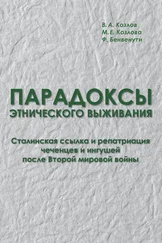– Объясни! – умоляла она трясущуюся Данку, у которой от истощения и пониженной температуры зуб на зуб не попадал. – Объясни, какого черта?
– Я его люблю, – отвечала Данка, заливаясь слезами.
– Не понимаю, – честно говорила Надя. – Не понимаю.
– Может, он вернется? – этот рефрен несчастная Данка произносила с интервалом в пятнадцать минут. – А? Может, вернется? Завтра, например? Как ты думаешь?
Даже в этом инфернальном состоянии полного отрицания себя Богдана была по-прежнему красивой со своими невероятными азиатскими глазами, которые достались ей от мамы – наполовину бурятки, с ярким крупным ртом и белой фарфоровой кожей. Мед, шелк, молоко и немного корицы, и все это добро угасает на глазах.
Но что с этим делать, Надя не знала. Говорить Данка могла только об Артеме. О его глазах и губах, о его пятках и щиколотках, обо всех остальных частях его тела, которые теперь достались этой крашеной сучке на роликах. Думать она могла только о том, как он в данный момент не с ней, не с Данкой, а вот с той, вот конкретно как и что. О детях, отправленных к бабушке, она вспоминала, но как-то отрывисто и отстраненно – дежурно звонила, но не рассказывала Наде о них, не реагировала на вопросы об успехах Левы в физматшколе, о танцевальном конкурсе чуть ли не всеукраинского размаха, в котором победила одиннадцатилетняя Анечка.
Данкина душа не отзывалась на детей.
Алкоголь в нее не заливался, точнее заливался, но тут же выливался обратно. Немного помогал привезенный Надей гедазепам – по крайней мере двух таблеток вечером, принятых с интервалом в полчаса, хватало, чтобы пациент забылся сном.
Данка засыпала, а Надя со слезами смотрела на нее, практически неразличимую под одеялом.
Данка просыпалась, и первыми ее словами было «О господи!». После чего она не менее часа глухо рыдала в подушку. То есть каждое утро она просыпалась и вспоминала все. Все, чего не было в ее снах. Ей снилось счастливое прошлое. Каждую ночь это ее счастливее прошлое подло и бесчеловечно обманывало ее.
На уговоры погулять она не отзывалась тоже, и Надежда в конце концов взмолилась о пощаде и на пару часов, с печального благословения подруги, вырвалась из трагического пространства Данкиной квартиры в летний изумительный Львов, в запах кофе и шоколада, под мелкий дождик, из которого можно перебежать на солнечную поляну в Стрыйском парке, в центр, на площадь Рынок, вон в ту кофейню, а потом еще вон в ту. Надя чувствовала себя сбежавшей из больничной палаты от тяжелобольного родственника, к которому все равно придется вернуться к вечеру, но хотя бы пару часов, пару часов жизни, в которой никто не плачет…
Получив кофе и круассан, она задумалась о своем нулевом КПД в вопросе спасения Данки, о том, что все равно послезавтра надо возвращаться домой независимо от того, жив пациент или мертв, потому что работу и семью никто не отменял. Подняла глаза и обнаружила за соседним столиком короткостриженую брюнетку с фиолетовой прядью, полностью закрывающей левый глаз. Девушка сияла, она широко улыбалась, и касалась пальцами волос, и передвигала салфетницу, и приподнимала подбородок. Надя смотрела на нее, а она – на того, кто уже вошел в кофейню и уже двигается к любительнице роликов и сеновала, лавируя между столиками. Вот и Надя увидела его – он был в светлом пиджаке и светлых джинсах, выглядел импозантно, и даже шарфик зелененький имелся, завязанный модным узлом. «С цветком удовольствия в петлице», – вспомнила Надя катаевский «Алмазный мой венец». Ну-ну.
– Привет, котенок, – сказал Артем и легко поцеловал любимую в губы, – я вырвался от этих скучных дядек и больше сегодня уже никуда.
– Да не очень хотел вырываться небось, я тут уже сорок минут сижу, – с выверенным, умеренным снисхождением сказала она и погладила его по шее. У нее были длинные ногти зеленого цвета – с его шарфиком гармонировали идеально. Пока она гладила его, он прижимался своей трехдневной небритостью к ее руке и урчал. Вполне натурально урчал, как кот, которого чешут за ухом. Надя подумала, что вот у кого уж огонь в чреслах, так это у Данкиного мужа, и этот огонь полыхает прямо сейчас.
И тут она почувствовала, как ее заполняет иррациональная, подростковая, вот просто-таки пацанская злость.
– Эй, Плант, – тихо позвала она его студенческим рок-н-ролльным прозвищем, и Артем обернулся на зов, да так и застыл, и рука девушки застыла, и как-то все на мгновение застыло, может быть, потому, что Надя сидела неподвижно и смотрела прямо в его добрые интеллигентные глаза. Вообще Артем всегда производил впечатление мягкого, где-то даже не по годам мудрого, внимательного человека. И сейчас мудрый взгляд серых глаз был ему к лицу значительно больше, чем в юности.
Читать дальше