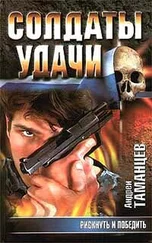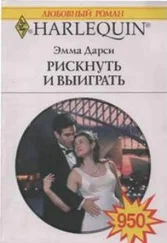Так и остались мы одни: я с Братом и три женщины разного возраста – Бабушка, Мама и младшая дочь Бабушки – старшина мед. службы, веселая хохотушка тетя Фаня, которая, рассказывая о себе, с лукавой улыбкой всегда говорила: «Я у нашей мамы первая, – при этих словах замолкала и потом неожиданно добавляла, – со второго десятка». Своим неунывающим характером она всегда бодрила каждого из нас, повторяя, что пока мы молоды, надо жить весело. Она была более свободной, чем Мама, поэтому много уделяла мне внимания, составляя для меня специальные упражнения, нечто похожее, как я потом узнал, на практическую логопедию. Она меня научила быстро подбирать удобные слова благодаря распевной манере речи. Она понимала, что то, чем она со мной занимается, это, как палочка для пожилого человека, – ходить помогает, но не лечит.
Профессор Русецкий, к которому Мама меня регулярно возила в Казань, отмечал некоторое улучшение и очень надеялся, что глубокое психологическое потрясение должно вывести меня из этого состояния. Такое психологическое потрясение мы вскоре испытали.
Однажды, когда мы уже спали, в дверь постучали – настойчиво, грубо, как могли стучать только бандиты. На вопрос Бабушки, кто стучит и что нужно в такой поздний час, раздались брань и угрозы. Мы занимали второй этаж частного дома. На первом этаже жили хозяева. К ним не ломились, зная, наверное, что в доме есть мужчины. Знали они также, что на втором этаже, кроме женщин и детей никого, поэтому не ожидали никакого сопротивления. Они без особого труда выломали дверь с улицы в сени, а вот массивная, дубовая дверь, закрывавшаяся на задвижку, оказалась им не под силу. Тетя Фаня прижимала меня к груди, успокаивая и заверяя, что все закончится хорошо. Так под стук топора мы не расслышали одиночный выстрел. На той стороне вдруг стало тихо. Топор перестал калечить нашу спасительную дверь, голоса затихли. Затем раздались шаги на лестнице, наступила тишина. Только потом мы увидели в руках Мамы пистолет и поняли, что произошло. Она впервые воспользовалась личным оружием, полагавшимся офицерам Красной Армии. Пулевая дорожка в двери еще долго напоминала нам о произошедшем.
Утром Бабушка повела меня в детский сад. Когда мы спускались по лестнице во двор, там хозяин дома, крепкий мужик лет пятидесяти, колол дрова. Ни слова не говоря, Бабушка подошла к нему и влепила такие две оплеухи, что в следующую секунду он оказался на коленях, а из носа текла струйка крови. «Это тебе аванс, подлец, расплата будет потом». Я не представлял, какая будет расплата, но аванс мне явно понравился. Даже хозяйский сынок – рыжий Толян – всегда дразнивший и обзывавший меня заикой, стал обходить меня стороной.
Вскоре у нас в доме появился мужчина – капитан Исаак Миронович Гурфинкель, который, имея серьезные намерения, настойчиво ухаживал за нашей тетей Фаней. Сначала я его жутко ревновал к Фане, уговаривая её не выходить за него замуж, а подождать меня, обещая расти быстро-быстро. Но потом мы с ним подружились, так как не подружиться с ним было просто нельзя – у него были золотые руки, светлая голова и доброе сердце. Он вполне серьезно относился к моим детским заботам, когда я, например, просил его решить сложную задачу – нарисовать букву один. И он рисовал букву один, просиживал ночами над чертежами для Брата, старался раздобыть продукты, которых не было, но народ просил есть, – словом, стал надежной опорой нашей Семьи. Вот только Бабушке не мог угодить, так как он оказался сыном местечкового сапожника. Она с гордостью говорила, что её отец был главным приказчиком у известного в России сахарозаводчика Бродского, а тут местечковый сапожник… Но в душе она уважала его и даже гордилась им. Когда ему удавалось сделать что-то необычное, из ряда вон выходящее, она обнимала его и со значением растягивая слова, говорила на идиш « Шистерс зун » 3 3 сын сапожника
и поднимала вверх большой палец. Все присутствующие покатывались от хохота, а Исаак Миронович пуще всех.
Коль речь зашла о психологическом потрясении, о котором говорил проф. Русецкий, не могу не сказать еще об одном случае, который врезался в мое детское сознание и оказал на меня глубокое психологическое воздействие.
Зима 1944 года выдалась суровой, снежной, и уже к началу декабря озеро Кабан все было испещрено ниточками тропинок, протоптанными теми, кто не желал идти в обход, а шли так, как это было удобно и быстрее. Вот и мы каждое утро топали через озеро Кабан, кто на службу в танковое училище, Брат в школу, а я в детский сад. Однажды морозным, солнечным днем я и Брат катались на санках с довольно крутого берега озера Кабан. Мы мчались вниз с такой скоростью, что останавливались далеко от берега. Потом с санками карабкались вверх по склону, чтобы в очередной раз с замиранием сердца мчаться вниз. Когда мы остановились далеко от берега, чтобы передохнуть немного, послышался хорошо знакомый мне рев самолета. Мне подумалось, что это какой-то сбитый немецкий самолет прорвался к нам, к городу Казани, чтобы завершить то, что ему не удалось сделать в июле 1941 года. Я упал на лед и закрыл голову руками. Казалось, еще мгновение… и самолет раздавит, расплющит нас. «Не реви», – словно сквозь густой туман послышались мне слова Брата. Он поднял меня и с силой вдавил в санки. «Не бойся, это далеко, лед крепкий», – долетали отдельные слова и фразы до моего сознания. Он схватил веревку от санок и побежал к берегу. Внезапно раздался оглушительный взрыв и вверх поднялся громадный столб огня и дыма. Это самолет врезался в лед. Мне показалось, что лед под нами закачался. Я заревел пуще прежнего. Брат обнял меня и спокойно сказал: «Не бойся, я тебя не брошу».
Читать дальше